ИА "Фергана.Ру": новости Центральной Азии
Некоторые особенности таджикской трудовой миграции в Россию21.02.2007 21:19 msk Селин Заурбеков Миграция представляет собой многомерный процесс, участники которого сталкиваются со многими трудностями на протяжении всего времени их пребывания в чужой стране. Исследователи выделяют три стадии миграционных процессов: подготовительную; стадию собственно миграции и стадию идентификации1. Безусловно, мигранты сталкиваются с трудностями в течение каждого этапа, причем, для каждой стадии имеют свои специфические характеристики. Трудности мигрантов необходимо рассматривать комплексно, отделяя экономические проблемы, вынуждающие мигрантов покидать родину, от тех, с которыми они сталкиваются в стране приема. Такой метод изучения миграции дает нам возможность изучить тенденции формирования миграционных потоков, и, более того, предсказывать динамику развития процессов. В Таджикистане потенциальные мигранты сталкиваются с экономическими трудностями; проблемами жизнеобеспечения себя и своей семьи. Иначе они именуются объективными и субъективными факторами миграции. Объективные факторы, в свою очередь, имеют социально-экономическую, политическую, демографическую основу. Такие факторы считаются определяющими. Тем не менее, субъективные факторы иногда приобретают большее значение в принятии решения о выезде, так как решение принимается индивидуумом, на основе его ценностных ориентаций, социального статуса и восприятия им объективных факторов миграции. Любой фактор может стать импульсом для возникновения других факторов миграции, которые соответственно с еще большей интенсивностью будут влиять на принятие решения потенциальным мигрантом об изменении место работы и жительства. П.Стокар отметил: «Процесс трудовой миграции проявляет тенденцию к собственной инерционности, если миграционный клапан однажды открыли, то закрыть его будет очень трудно»2. Как известно, импульсом для формирования миграционного потока из Республики Таджикистан послужил политический фактор, нестабильность и гражданская война. Это вызвало соответствующие социально-экономические потрясения. Так, в начале 1990-х годов политическая нестабильность вынудила многих людей в Таджикистане оставить свои дома и переселиться в другие места; после чего начался спад производства, вырос уровень безработицы, а это стало основой экономической нестабильности в целом. Помимо таких негативных последствий данного периода, как развитие наркобизнеса и коррупции, началось развитие миграции. Рост миграционных потоков не только задержал увеличение уровня безработицы, но, в некоторой степени, и дальнейший рост других негативных процессов. Как отметил известный французский демограф Жорж Топинос: «С экономической точки зрения миграция это, прежде всего, ответ на отсутствие развития». Так, в первую половину 1990-х гг. в Таджикистане наблюдалось многократное падение уровня экономических показателей в целом по республике. Сегодня мигранты из Таджикистана сталкиваются с такими существенными проблемами, как недостаток возможностей карьерного роста, интеллектуального развития и самосовершенствования в молодом возрасте. Во время работы на выезде мигрант занимается только удовлетворением своих первичных потребностей, а именно выживанием. При принятии решения о выезде на заработки главным фактором являются те цели, которые ставят перед собой потенциальные мигранты. Исходя из этого, среди них можно выделить следующие категории: - мигранты, обеспечивающие выживание своей семьи, ее первичные потребности (продукты питания, одежда). - мигранты, помогающие своей семье в приобретении образования - помощь семейному бизнесу и т.д. - мигранты, стремящиеся к развитию у себя на родине; получают образование в принимающих странах, вкладывают деньги в приобретение жилье у себя на родине или открывают там собственное дело и т.д. - мигранты, стремящиеся к адаптации в принимающей стране; открывают собственное дело в стране-реципиенте или работают наравне с местным населением, приобретают жилье в принимающей стране и получают ее гражданство. Первые две категории мигрантов стремятся чаще возвращаться на родину, а вторая и третья группы более склонны осесть в принимающей стране. В своей последовательности эти категории представляют собой «лестницу развития мигранта». Большинство мигрантов из Таджикистана миновали начальные категории и сейчас находятся в двух последних, но и две первые позиции не утратили свою значимость. Отрицательные стороны миграции для страны-экспортера Одна из негативных сторон для страны - экспортера рабочей силы - это то, что за границей мигрантам приходится заниматься неквалифицированной работой в противоположность квалифицированной работе, которой они занимались на родине. Это происходит потому, что ниша квалифицированных профессий на рынке труда принимающей страны занята местным населением. Таким образом, одна из трудностей, с которой сталкиваются мигранты, это - необходимость переквалификации. Это часто приводит к тому, что учителя водят грузовики, а инженеры трудятся на стройке простыми рабочими. Однако, неквалифицированная работа за границей оплачивается в несколько раз выше, чем их квалифицированная работа дома. Проблема в том, что, когда они возвращаются домой, их навыки оказываются утраченными. Следовательно, многие мигранты после того, как завершается их работа на выезде, все равно не возвращаются к прежней профессии. Адаптация в России и мигрантские сети Немалое значение имеют процессы адаптации трудовых мигрантов за рубежом, привыкания к новым условиям работы и жизни в целом. К важнейшим факторам адаптации и одновременно к основным трудностям работы за рубежом следует отнести знание языка принимающей страны. Также одним из главных источников трудностей в процессе адаптации мигрантов из Таджикистана в российском обществе является правовая система, регулирующая доступ к возможностям трудоустройства на рынке занятости. Другие процессы адаптации протекают менее трудно благодаря тем общим ценностям, которые воспитывались в народах-соседях в течение долгого времени советской эпохи. Однако следует отметить, что эти ценности начинают терять свою значимость в последнее время. Процесс адаптации сопровождается столкновением интересов мигрантов и разных социальных групп в принимающем обществе, что становится причиной трений и конфликтов. Помимо того, что мигранты несут большие затраты на проезд, им приходится преодолевать еще большие трудности, когда они приезжают на место. Они встречаются с различными формами дискриминации, что появляется в работе, которую они выполняют, заработной плате, в их шансах на продвижение, и риске стать безработными. Дискриминационным практикам на рынке труда и жилья во многом способствуют «антимигрантские» настроения определенной части коренного населения Российской федерации, что препятствует интеграции мигрантов в общество, приобщению к российской культуре и освоению языка. На наш взгляд, это и есть основная причина так называемой анклавизации мигрантов, что делает их замкнутыми в своем кругу. Например, согласно опросу 2003 года, 70% таджикских рабочих в России не выходили на улицу за пределы своего места работы, где они также и проживали. Владелец жилья в первую очередь обращает внимание на то, является арендатор приезжим или местным, во вторую очередь – на его национальность; эти признаки идут в одной связке. Другие факторы – прописка, наличие маленьких детей, семейное положение, гражданство, род занятий существенно менее значимы, а пол и возраст, скорее всего, вообще не принимается в расчет при сдаче жилья3. Кроме процесса адаптации, при рассмотрении эволюции образа жизни мигрантов необходимо еще уделять внимание социальному развитию. Адаптация и социальное развитие мигрантов имеют прямо пропорциональную зависимость, то есть люди, более интегрированные в принимающее общество, соответственно, менее уязвимы. Практика показывает, что большинство из тех, кто не смог интегрироваться в социальную систему принимающего общества живут за чертой бедности. Следовательно, условия для интеграции в основном создаются принимающим обществом, от которого зависит эффективное использование потенциала мигрантов. Процесс адаптации таджикских мигрантов значительно облегчают мигрантские сети, то есть образование по типу разных социальных ячеек, общин. Развитие сетей в свою очередь также стимулирует миграционную активность населения Таджикистана. Хотя такие сети обычно строятся медленно и болезненно, таджики в Российской федерации построили их сравнительно быстро по двум причинам. Во-первых, для Таджикистана традиционно характерны крепкие родственные отношения, которые проявляются во всесторонней поддержке не только своих родственников, но и своих земляков, что, на наш взгляд, является главной предпосылкой образования сетей. Во-вторых, немаловажное значение имело также знание русского языка и исторически сложившиеся между нашими государствами связи. Социальные сети, которые образуют мигранты, имеют определенную иерархию и тенденцию развития, вершиной которой является организация диаспоры и землячества мигрантами в стране своего пребывания. Соответственно, чем выше позиция сформированных мигрантами сетей на «пирамиде иерархии сетей», тем легче будет их членам приобщиться и адаптироваться к новым условиям работы и жизни за пределами своего постоянного места жительства. Тем не менее, главная роль в формирования сетей миграции принадлежит первопроходцам, или «пионерам», которые заложат фундамент развития и роста миграционного потока. «Пионеры» находят место вселения, заботясь о документах и визах, способах приезда и стимулируют в дальнейшем весь процесс миграции, оказывая помощь и поддержку своим родственникам и односельчанам4. Так, чем более сильная и развитая мигрантская сеть сформирована в стране прибытия, тем эффективнее она может повлиять на экономику и даже на политику страны исхода. Мигрантские сети выходцев из Таджикистана в России организованы пока что только на уровне родственных связей; соответственно на экономику страны исхода они влияют только на уровне домохозяйств (семей), если не учитывать косвенные экономические факторы. Тем не менее, мировой опыт показывает, что мигранты могут влиять на экономику страны исхода более существенным образом. Они способствуют сближению экономик двух стран, организуя торговые партнерские отношения. Экономические факторы и профессия «мигрант» Помимо объективных причин формирования миграционного процесса на его развитие влияют личностные факторы, то есть, субъективное восприятие объективных факторов. Индивидуальное восприятие, осознание информации об отталкивающих и притягивающих факторах миграции, являются субъективными факторами формирования миграционного процесса. Что касается Республики Таджикистан, то миграция является единственным выходом для большей части населения из сложившейся социально-экономической ситуации. На начальной стадии формирования миграционного процесса в РТ субъективные факторы не играли особой роли, то есть, индивид находился в безвыходном положении. Коллапс командно-административной экономики, который произошел в 1990-е гг., стал импульсом для роста миграции из Таджикистана, ставшей в то время единственным корректором не только социально-экономического положения, но и стабилизатором политической ситуации в стране в целом. Вплоть до 1997 г. агрегированные (макроэкономические) показатели экономики Республики Таджикистан имели минусовые значения, после чего в последующие годы начался их рост. Тем не менее, по данным Всемирного банка (ВБ) рост экономики в 1997-2005 гг. компенсировал предшествующий спад ВВП лишь до уровня 68% по отношению к 1990 г.; и роль миграции в этом является довольно существенной за счет денежных переводов. По официальным данным эмиграция из РТ стабилизировала свой уровень только в 1999г., а до этого все время росла и до сих пор высока. На первый взгляд это кажется парадоксальным, так как рост экономики страны - донора должен вызвать снижение оттока трудоспособного населения, но из РТ эмиграция существенно не снижается. Кроме этого, существуют другие факторы, которые могли бы снижать темпы миграции из РТ более интенсивно, чего не наблюдается сегодня. Например, ужесточение миграционного законодательства в принимающих странах, общественное мнение населения страны - реципиента по отношению к мигрантам и т.д. По нашему мнению, существует следующие причины такого парадокса. Во-первых, миграционные факторы «эволюционны», они связаны причинно-следственной связью, то есть один фактор порождает другой, что во многом определяет миграционный поток. Следовательно, чем больше причин для миграции, тем она сильнее. Во-вторых, экономический фактор является основным, но на протяжении некоторого периода он может терять свою доминирующую роль. Любой миграционный процесс на начальной стадии имеет в качестве побудительного мотива экономические факторы, то есть желание удовлетворить свои материальные потребности, но даже в случае, если постепенно возможность их удовлетворения на родине будет расти, эмиграция из страны долгое время не будет снижаться. Это происходит из-за того, что часть населения страны на психологическом уровне ориентирована именно на выезд из нее. Например, подростки в РТ, увидев успехи эмигрантских семей еще во время своей учебы в школе, ориентировали себя именно на совершении эмиграции из страны; так же поступает и большая часть студентов. Это составляет основной психологический фактор в сегодняшней волне эмиграции из РТ, и ее можно называть миграционной волной с преобладающим психологическим фактором. В-третьих, многие мигранты привыкли к работе за рубежом и к стране своего нового пребывания в целом. Они для себя выбрали профессию «мигрант». Если даже у них появится возможность удовлетворить свои экономические потребности на родине настолько, насколько они удовлетворяют их в стране выезда, они все равно будут мигрировать. Необходимость мигрировать стала частью общественного сознания и глубоко закрепилась в головах населения, чем обусловлен такой высокий показатель «коэффициента мигранто-ориентированности» рабочей силы Республики Таджикистан: значительная часть населения признала только эмиграцию путем решения своих экономических проблем. Миграционная лихорадка «Миграционная лихорадка» способствует тому, что в некоторых случаях эмигрируют из РТ даже те люди, у которых есть возможности более существенно улучшить свою жизнь на родине, нежели мигрировав из нее. Во время «миграционной лихорадки» люди заботятся только о доходе от работы на выезде, величина которого непредсказуема. Они отнюдь не думают о социальном и профессиональном продвижении, которые могли бы случиться у них на родине за тот период, во время которого они работали за рубежом. В то же время многие мигранты не удовлетворены тем, что величина полезности, которую они получают от миграции меньше, чем совокупность тех издержек потерь, которые они несут в процессе миграции. Приведем конкретный пример из жизни. Так, человек, который у себя на родине в месяц в среднем зарабатывал по 50 долларов в месяц, что в годовом исчислении, соответственно, составляет 600 долларов, все-таки принял решение на год уехать на заработки в Россию. Так, его транспортные расходы и расходы при прохождении границ туда и обратно (Таджикистан-Россия-Таджикистан) составили 600 долларов. Два месяца он не мог найти себе работу и жил на иждивении своего брата, что обошлось ему в 300 долларов. После того, как он нашел работу, первые полгода его зарплата составляла 300 долларов в месяц. За жилье он платил 80 долларов в месяц; повседневные расходы в среднем составляли 150 долларов, расходы на милицейские поборы - по 10 долларов в месяц. Итого, его ежемесячные расходы равняются 240 долларам, и у него от зарплаты остается только 60 долларов в месяц, которые за пять месяцев покрывают его двухмесячное иждивенчество (та сумма, которую он выплатил брату). После полугода работы его доходы повысились до 400 долларов, а расходы остались неизменными (240 долларов). В итоге, период работы на выезде составил полтора года, и за 12 месяцев, когда он уже заплатил все долги, его накопления составили 1920 долларов. Если из этой суммы вычесть его полуторагодичную зарплату, которую он мог бы получить дома (900 долларов) и его транспортные расходы (600 долларов), то он вернулся домой с 730 долларами в кармане. Еще следует отметить, что на своей работе на родине он в сутки трудился по 8 часов, а на выезде - по 12 часов в сутки. Помимо всего прочего, он потерял работу в Таджикистане, где мог бы сделать карьеру и больше зарабатывать в будущем. Его семейное хозяйство пришло в упадок за время его отсутствия и, конечно же, нужно учесть моральный ущерб для него и его семьи. Таких примеров можно очень привести много... Коэффициент интегрированности таджикских мигрантов в российское общество с каждым годом занижается по следующим причинам: - с каждым годом у новых мигрантов ухудшается знание русского языка. - идет интенсивный процесс анклавизации таджикских мигрантов. - нарастают антимигрантские настроения принимающего общества. ПРИМЕЧАНИЯ: 1 Стокер П. Работа иностранцев: Обзор международной миграции рабочей силы. – М., 1995. – с.36 2 Мукомель В.И. Миграционная политика России. Постсоветские контексты. М., 2005, с. 207-234 3 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. – М., 2003. – с. 113 4 Стокер П. Работа иностранцев: обзор международной миграции рабочей силы. – М., 1995 – с.40 * * * Селин Заурбеков - Аспирант Института востоковедения Российской Академии Наук
Медицина Киргизии может развалиться из-за нехватки кадров21.02.2007 12:31 msk Абдумомун Мамараимов (Фергана.Ру) По данным, озвученным министром здравоохранения Киргизии Шайлообеком Ниязовым, в 2006 году из-за крайне низких окладов около пятисот медицинских работников уехали из страны в Россию и Казахстан. В то же время новоиспеченные врачи, только что получившие дипломы киргизских медицинских вузов, не спешат занять их места. Они предпочитают устраиваться в других отраслях экономики или вовсе уходить «в никуда», пополняя ряды безработных. Особенно остро стоит вопрос в регионах. Новые медицинские кадры работать там не хотят, а обязательство отработать энное количество лет по направлению вуза, которое в советское время позволяло хоть как-то снизить остроту проблемы, теперь не существует. Сорокалетний невропатолог территориальной больницы Ноокенского района Джалалабадской области Батырбек Курбанкулов - самый молодой врач-мужчина, который пришел работать в эту больницу за последние 17 лет. Его зарплата не дотягивает до отметки 3000 сомов (около $75), зато приходится через день оставаться на ночное дежурство в отделении. «В России за такую работу предлагают в 10-15 раз больше, - говорит Б.Курбанкулов. - Поэтому многие опытные коллеги уезжают туда». В последнее время и он подумывает об этом – при его нынешней зарплате трудно прокормить семью даже в сельской местности, где цены ниже, чем в городах. За границей особенно востребованы специалисты, окончившие медицинские вузы в советское время, то есть, самые высококвалифицированные кадры, в которых Киргизия нуждается не меньше, чем та же Россия. Но в России предлагают зарплату в 25-30 тысяч рублей, что в 10-15 раз превышает заработок в Киргизии. Кроме этого, желающим переехать обещают решить жилищные проблемы, что является одной из наиболее острых проблем горной страны. Стоит упомянуть и о перспективе дать в России своим детям хорошее образование. Национальная программа «Манас таалими» («Учение Манаса»), рассчитанная на 2006-2010 годы и ознаменовавшая собой начало второго этапа реформ в системе здравоохранения Киргизии, в основном направлена на улучшение качества оказания медицинских услуг. Согласно программе, за последнее время заметно улучшилось финансирование отрасли. Например, если в 2005 году сфера здравоохранения Джалалабадской области получила из бюджета 145 млн. сомов (более 3,5 миллионов долларов), то в прошлом году - на 100 миллионов сомов больше. Такая тенденция наблюдается и в других регионах страны. На выполнение этой программы международные доноры выделили Киргизии в качестве безвозмездной помощи 57 миллионов долларов США. Однако заметное улучшение качества медицинских услуг явно не сказывается на материальном положении медиков. Как сообщил ИА «Фергана.Ру» директор Ноокенской территориальной больницы Шамшидин Абдирешев, сегодня зарплата начинающего врача составляет около 40-45 долларов, медсестры получают не более 35 долларов, а санитарки – 950 сомов, что в переводе на заокеанскую валюту составляет менее 25 долларов. Медики радуются уже тому, что выдачу этих «грошей» им не задерживают. Нельзя сказать, что власти не обращают внимания на эту проблему. Так, в прошлом году правительство Киргизии сумело повысить заработную плату медиков на тридцать процентов. Как следует из слов министра здравоохранения страны Ш.Ниязова, «чтобы остановить отток врачей, министерство наряду с программой 2006 года «Депозит врача», которая предусматривает ежемесячное перечисление на счет специалиста трех тысяч сомов, в 2007-м намерено объявить конкурс на депозит «Специалиста бригады скорой помощи». На этот счет планируется перечислять по 2,5 тысячи сомов». Кроме этого, по словам министра, достигнута договоренность с губернаторами областей и руководителями районов республики «о предоставлении жилья, земельных наделов и живности для командированных в села врачей». Однако недавнее заявление премьер-министра Азима Исабекова о переходе страны на двухуровневой бюджет, что означает упразднение областных и районных структур, сводит на нет эти благие намерения. Хотя с 1 апреля 2007 года планируется увеличить заработную плату всем медицинским работникам еще на 30 процентов, о решении проблемы социальной защищенности медиков пока говорить не приходится. По словам Номанжана Мирзахмедова, заведующего хирургическим отделением Базаркоргонской территориальной больницы, сегодня в киргизской медицине работают в основном люди «предпенсионного возраста, которым ничего не остается, как дожидаться своих пенсий». «Повышение зарплаты на тридцать процентов - мизер по сравнению с ростом инфляции, - сетует врач. - Судите сами: пару лет назад килограмм картошки стоил два сома, а теперь - двадцать». «Уже приходится приглашать на работу пенсионеров», - говорит директор Ноокенского Центра семейной медицины Абдикерим Мусаев, жалуясь на слабую подготовку новых кадров, которые хоть очень редко, но поступают к нему на работу. По расчетам Мусаева, если район будет продолжать терять своих врачей такими темпами, то через пять лет работать здесь будет некому. «С такими темпами реформ мы можем потерять отрасль», - говорит молодой доктор. С ним трудно не согласиться. Как сообщил директор Джалалабадской областной объединенной больницы Абдыкадыр Исаев, в прошлом году из больницы уехало 125 врача, из которых одиннадцать – квалифицированные хирурги. Два врача попрощались с ним уже в этом году. Не выдержали местных условий и 133 медицинские сестры. При этом в прошлом году на работу поступило семь молодых врачей. «Чтобы удержать их, надо создать условия – зарплату поднять хотя бы на 5-10 тысяч сомов, помочь решить жилищные и другие проблемы», - говорит Исаев. «Мы работаем с тяжелобольными, с которыми не могли справиться на местах, но наша зарплата не отличается от той, что получают тамошние врачи», - добавляет он. По данным информагентства 24.kg, в 2006 году Киргизская государственная медицинская академия, Киргизско-Российский Славянский университет и Ошский государственный университет в совокупности выпустили 786 медицинских работников. Однако учреждения здравоохранения так и не пополнились новыми кадрами. Например, «из терапевтов, обучавшихся на бюджетной основе (191 человек), к трудовой деятельности приступили только 52, в том числе 39 - в Бишкеке. Кроме этого, низкая престижность семейного врача не способствует росту желающих поступать в клиническую ординатуру по этой специальности (не более десяти человек на семьдесят мест)», сообщает агентство. На вопрос «за какую зарплату вы хотели бы работать?», медики отвечают по-разному. Одному достаточно ста долларов, другой хотел бы получать не менее трехсот. Однако с учетом возможностей бюджета слаборазвитой страны, на который давит внешний долг почти в два миллиарда долларов, на скорое воплощение чаяний медиков надеяться не приходится. Как отметил сотрудник финансовых органов, не пожелавший «рекламировать свое имя», отказ правительства страны вступать в программу списания долгов наибеднейшим странам (ХИПИК), объявленный 20 февраля, ставит под сомнение и возможное принятие решения об очередном тридцатипроцентном повышении зарплаты медработников. Старшая медсестра Айнура Масабирова год поработала в России, однако по семейным обстоятельствам недавно ей пришлось прервать свою «загранкомандировку». «В России я увидела условия, которые нашим медикам и не снятся, - сказала она в беседе с корреспондентом ИА «Фергана.Ру». – За год работы в России я решила практически все финансовые проблемы семьи. Тот, кто побывал там, уже не захочет вернуться на родину. Теперь уеду навсегда, получу российское гражданство и продолжу жить как люди. Тем более, там меня уже ждут российские коллеги, которые никак не хотели отпускать меня домой. Боялись, что я не вернусь. Такого внимания к человеку у нас не увидишь». Лучшей рекламы медицинской отрасли соседних стран, пожалуй, не придумаешь. Следует отметить, что сегодня тема почти сказочных условий работы за рубежом горячо обсуждается на самых различных уровнях медперсонала. Если низкий уровень зарплаты и социальная незащищенность заставляют одних медиков искать счастья в соседнем Казахстане и России, то других вынуждает решать свои проблемы за счет средств больных или хищений из госбюджета. Хотя выявленных случаев взяточничества среди медиков и нецелевого использования бюджетных средств не так уж и много, опросы среди населения говорят о процветании системы «неформальных» платных услуг в медучреждениях страны. Однако, как показали исследования, медиков, желающих уехать лечить граждан других стран, становится все больше.
Придет ли конец скитаниям «коре сарам»? О миграции среднеазиатских корейцев в Россию). Часть первая21.02.2007 11:22 msk Михаил Калишевский Среди этносов Центральной Азии, которая сама по себе стала регионом активной миграции, весьма высоким миграционным потенциалом, ориентированным, прежде всего, на Россию, обладают местные сообщества корейцев. Почему же они ориентированы именно на Россию, а не, скажем, на свою историческую родину – Корею? Дело в том, что бесчеловечная «социальная инженерия», применявшаяся советскими коммунистами при решении ими «национального вопроса», сформировала на пространстве бывшего СССР совершенно уникальные этносы из числа репрессированных народов – с двумя историческими родинами. Этносы с двумя историческими родинами Под первой исторической родиной в данном случае имеется в виду собственно историческая родина, то есть страна происхождения, откуда представители данного этноса некогда переселились в пределы Российской империи. Под второй – место традиционного компактного проживания этого этноса уже в пределах царской России, а позднее СССР, откуда в годы коммунистического террора эти этносы были поголовно депортированы и отправлены в «рассеяние». Наиболее крупными этносами такого рода стали поволжские немцы, депортированные в Казахстан и Западную Сибирь, греки-понтийцы, высланные из Причерноморья в Среднюю Азию, и корейцы, изгнанные туда же из районов компактного проживания на российском Дальнем Востоке. «Двойственность» исторической родины породила у них и двойственность самоидентификации – после краха тоталитарной системы перед этими этносами встала дилемма выбора пути возвращения из «рассеяния», выбора ориентиров, с которыми будут связаны надежды на сохранение своей этнокультурной идентичности и возрождение национальной культуры. Проще говоря, встал вопрос: куда возвращаться-то? Туда, откуда выслали, или на изначальную родину предков, туда, где данный этнос является «титульной» нацией и обладает собственной национальной государственностью? Естественным следствием такого «промежуточного» состояния стала и высокая миграционная мобильность, причем не просто готовность сняться с места и поселиться где-нибудь в более комфортных условиях, но и готовность довольно быстро сняться уже с этого нового места, если условия не устраивают. По мере того, как надежды на полноценное национально-культурное возрождение и достойную жизнь в России в силу различных причин не оправдывались, большинство казахстанских немцев (особенно после краха идеи восстановления Республики немцев Поволжья) и среднеазиатских греков, выталкиваемых в силу новых этнополитических реалий из бывших советских республик Центральной Азии, стали делать выбор в пользу «репатриации» – переезда, соответственно, в Германию и Грецию. Безусловно, огромным стимулом к репатриации немцев и греков служила и служит политика властей Германии и Греции, принимающих зарубежных соплеменников, предоставляющих им гражданство, подъемные, пособия и так далее. Не говоря уже о том, что благополучные Германия и Греция сами по себе, еще со времен советского бесправия и унижений, являются чрезвычайно привлекательными для немцев и греков бывшего СССР. И, тем не менее, первоначально значительная часть немцев и греков была ориентирована именно на возвращение в Россию, и они, как и их соплеменники, уже живущие в РФ, даже начали называть себя «российскими» немцами и греками. Но, увы, Россия оказалась не готова принять их. Между тем, процессы, протекавшие в сообществах «коре сарам» (самоназвание корейцев бывшего СССР), хотя и были похожи на то, что происходило с немцами и греками, но все-таки отличались своей ярко выраженной спецификой, обусловленной особенностями истории, культуры и менталитета корейского этноса на территории России и Советского Союза. Как «коре сарам» оказались в России
К 1880 году на территории Приморья существовал уже 21 корейский поселок, а численность корейского населения края достигла 6700 человек (русских крестьян в Приморье тогда было всего лишь 8300). К 1901 году на территории края проживало уже около 30 тысяч корейцев. С одной стороны, российские власти приветствовали корейскую иммиграцию, ведь трудолюбивые, умелые и законопослушные переселенцы здорово помогали осваивать огромный безлюдный край. Однако, с другой стороны, корейцы воспринимались властями как потенциальная «пятая колона» - власти опасались, что заселение дальневосточных земель «желтыми» со временем позволит азиатским соседям претендовать на российские владения на Дальнем Востоке. Причем российская пресса того времени писала о корейских переселенцах примерно то же самое, что сейчас пишется о китайцах, «заполонивших» Дальний Восток. Политика по отношению к переселенцам определялась в основном личными взглядами генерал-губернаторов. Одни, как С.М.Духовский и Н.И.Гродеков, поощряли корейскую иммиграцию и бесплатно давали корейским крестьянам большие земельные наделы, другие, как Н.А.Корф и П.Ф.Унтербергер, сдерживали иммиграцию и проводили дискриминационную политику. Пытались препятствовать эмиграции в Россию и корейские власти, которые были недовольны сокращением «налогооблагаемой базы». Однако корейская община на Дальнем Востоке все равно увеличивалась с каждым годом. После 1905 года, после того, как Корея была оккупирована Японией, иммиграция корейцев в Россию стала подстегиваться еще и политическими причинами - на русской территории стали укрываться политэмигранты, разбитые японцами партизанские отряды и даже целые подразделения корейской регулярной армии, которые отказались подчиниться отданному японцами приказу о разоружении. После официального провозглашения Кореи японской колонией в 1910 году, когда в самой Корее колониальные власти практически запретили книгоиздание и образование на корейском языке, российский Дальний Восток стал одним из немногих мест, где корейцы могли относительно свободно получать образование и издавать литературу на родном языке, вести просветительскую деятельность и даже заниматься политикой. К 1917 году в России проживало уже более 90 тысяч корейцев, причем в Приморском крае они составляли почти треть населения. Главным центром расселения иммигрантов стал Посьетский район, находящийся близ Владивостока, на самой границе с Кореей. Корейские переселенцы составили там до 90 процентов всего населения, большинство иммигрантов по-прежнему были крестьянами нищих провинций северо-восточной Кореи. Переселенцы говорили в основном на северо-восточном (хамгенском) диалекте, который сильно отличается от литературного сеульского диалекта. Поэтому распространенное среди корейцев СНГ убеждение, что их язык «искажен» долгой жизнью в России, не имеет под собой оснований. Корейцы СНГ не «исказили» язык, а, наоборот, сохранили говор своих предков, которые по-сеульски никогда не говорили. В начале XX века возникло и самоназвание российских корейцев - «коре сарам» (явно под влиянием русского названия страны «Корея», которое в самой Корее не используется уже несколько столетий). Большинство корейцев переселялось в Россию с семьями (или вызывали семьи при первой возможности) и стремилось получить русское подданство, ради чего многие принимали православие. Ведь русским подданным было легче получить землю в собственность, в то время как иностранцы были вынуждены арендовать ее или батрачить. Корейцы побогаче старались выучить русский язык, а по возможности - и отправить детей в русскую гимназию. К 1917 году среди переселенцев встречались уже и выпускники российских университетов. Однако эти корейцы составляли лишь небольшую часть общины, которая в целом продолжала жить очень замкнуто. Большинство корейцев русским не владело, потому что в Приморье в начале XX века переселенцу можно было обойтись одним корейским языком, покупая товары только в корейских магазинах, обучая детей в корейских школах и общаясь с корейскими старостами. В годы Гражданской войны корейцы активно поддерживали большевиков. Это понятно - большевики обещали покончить с любой дискриминацией нацменьшинств и разделить землю поровну, а корейцы были нацменьшинством, к тому же среди них преобладали малоземельные крестьяне. Кроме того, главными союзниками белых на Дальнем Востоке были ненавистные корейцам японцы, и это тоже сказалось на взглядах переселенцев. Впоследствии большевики по-своему «отблагодарили» корейцев за поддержку, но поначалу, в двадцатые годы, казалось, что они вроде бы начали выполнять свои обещания: корейские крестьяне получили землю, в крае открылись новые корейские школы (к началу 30-х годов их было более трехсот), в Уссурийске начал работать корейский педтехникум, были основаны корейский театр и корейская газета «Сонбон», во Владивостоке был создан корейский педагогический институт, который тогда был вообще единственным корейским вузом в мире (в самой Корее преподавание в вузах велось только на японском языке). Появились корейцы-партработники, корейцы-«красные командиры», корейцы-управленцы. Были созданы корейские сельсоветы, а военнообязанные корейцы проходили службу в корейском полку. Однако, несмотря на весь свой «интернационализм», советские власти относились к корейцам с подозрением. Сильно раздражала их и продолжающаяся иммиграция. Только в 1930 году границу с Кореей и Китаем удалось полностью закрыть. С этого времени дальневосточная корейская община извне уже не пополнялась, а ее связи с Кореей оборвались (исключением являются корейцы Сахалина, у которых своя собственная, специфическая история). Дело кончилось трагическим парадоксом – корейцев поголовно объявили японскими шпионами (это корейцев-то, традиционно относившихся к Японии с ненавистью!) и так же поголовно депортировали с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Были почти полностью уничтожены выдвинувшиеся в послереволюционные годы партийные руководители-корейцы, практически все корейцы-офицеры, вся корейская секция Коминтерна и большинство корейцев с высшим образованием. Решение о выселении всех корейцев из приграничных районов и об их отправке в Среднюю Азию было принято ЦК ВКП(б) и Совнаркомом 21 августа 1937 года (директива №1428-326бсс). Впервые в советской истории принадлежность к определенной этнической группе сама по себе стала достаточным основанием для наказания, таким образом корейцы стали первым репрессированным народом СССР. Депортация, адаптация, аккультурация Сама депортация произошла осенью 1937 года со всеми положенными в подобных случаях зверствами: 170 тысячам человек дали минимальный срок на сборы, погрузили в эшелоны по 5-6 семей в вагон для перевозки скота и к зиме 1937-38 годов перевезли в Среднюю Азию (в основном в Узбекистан и Казахстан), где выгрузили практически в чистом поле. В результате в первую зиму, которую пришлось провести в наспех построенных землянках, умерло много детей (в том числе треть всех грудных младенцев) и стариков. Правда, по сравнению с народами, репрессированными позднее (немцами, чеченцами, калмыками, крымскими татарами и другими) положение корейцев было несколько лучше. Они не должны были еженедельно лично являться в «спецкомендатуры» для регистрации, могли передвигаться по территории Средней Азии, а при наличии спецразрешения - и за ее пределами. Наконец, корейцы могли учиться в вузах и даже занимать некоторые ответственные посты - в 1941-1953 годах в местах депортации корейцы иногда встречались среди секретарей райкомов, председателей колхозов и на низших должностях в НКВД. Но в армию корейцев не брали, и во время войны направляли на принудительные работы в «Трудармию», где из-за голода, болезней и тяжелейшего труда выжить было немногим легче, чем на фронте. Правда, запрет на службу в армии не распространялся на тех немногих корейцев, которые в 1937 году проживали за пределами Дальнего Востока и избежали депортации. Значительная часть этой группы корейцев участвовала в войне. Расселяли корейцев в сельской местности (по данным переписи 1959 года, в Узбекистане проживало 44,1 процента всех советских корейцев, в Казахстане - 23,6 процента), обязывая трудиться в переселенческих колхозах, создаваемых фактически на голом месте. Лишь небольшой части интеллигенции разрешалось жить в городах и работать по специальности. Корейские колхозы в основном специализировались на выращивании риса и овощей. Однако возникновения «чисто корейских» районов не допускали - корейские поселки были разбросаны довольно далеко друг от друга, среди поселков узбекских, казахских, русских. Еще в 1937-1938 годах были ликвидированы практически все корейские культурные и образовательные учреждения, в школах, а также в педучилищах и пединституте, переведенном из Владивостока в Кзыл-Орду (Казахстан) преподавание было переведено на русский язык. В июле 1945 году по приказу Берии статус административно переселенных для корейцев был заменен статусом спецпереселенцев. Они полностью потеряли право свободного передвижения. Едва ли не самым главным последствием репрессивных мер в области образования и культуры стала почти полная утрата корейским этносом в Средней Азии родного языка, Это, в общем, понятно – если язык фактически запрещен, а образования на родном языке не существует, то в условиях иноязычного окружения сохранить и развивать язык его носителям довольно сложно. Заметно сузилась сфера применения корейского, ослабла устойчивая лингвистическая среда. Да и сам язык, оторванный от основной массы носителей, законсервировался. Однако в случае с корейцами не последнюю роль сыграла еще и исключительная способность корейского этноса к всесторонней адаптации в новых условиях, в данном случае в условиях дискриминации по этническому признаку. Адаптации не только экологической, но и социальной, экономической и культурной. А после адаптации, как отмечают исследователи из числа самих корейцев СНГ (Герман Ким, Валерий Хан и др.) происходит «аккультурация» – освоение чужой, в данном случае русской культуры и языка. Случилось так, что корейская молодежь из второго и третьего поколений депортированных сменила «языковой код» и образ жизни, сохранив, тем не менее, четкую самоидентификацию, основанную на принадлежности к определенному этносу – коре сарам или, если употребить русский термин, к «советским корейцам». Однако при всем этом сохраняются определенные различия между корейцами Узбекистана и Казахстана. Казахстанские корейцы прошли гораздо дальше по пути аккультурации, чем их соплеменники в Узбекистане. Дело в том, что вплоть до 80-х годов корейцы в Узбекистане проживали относительно компактно, в корейских колхозах, и смогли в большей степени сохранить корейский язык. Казахстанские же корейцы, как только стало невыгодно заниматься сельским хозяйством, быстро урбанизировались и переселились в большие города, чтобы получить образование. За 60 лет корейцы Казахстана превратились из сельского населения (85 процентов корейцев были сельчанами) в население городское. Численность корейцев в Алма-Ате, Ташкенте и Бишкека увеличилась за последние два десятилетия в несколько раз. Это привело к разрушению традиционного общества, индивидуализации жизни в корейских сообществах, росту числа межнациональных браков, процент которых среди корейцев Казахстана стал очень высок. Свою роль сыграла и традиционная толерантность казахской культуры, казахской версии ислама и присутствие в казахском менталитете значимых индивидуалистических черт, которые еще и подстегивались процессами урбанизации и модернизации жизни уже самих казахов. В Узбекистане же корейцы находились (и находятся) в несколько других условиях. Прежде всего, в силу конфессионального фактора – узбекский ислам довольно сильно отличается от казахского в плане толерантности. Еще один фактор - узбекская махалля. Туда чужих не впускают и своих стараются не выпускать. К тому же для узбеков смешанный брак не самое, мягко говоря, радостное событие. Однако если рассматривать вопрос в целом, все корейцы, проживающие в Средней Азии и Казахстане, несмотря на определенные региональные различия, безусловно, относятся к русскоязычному населению центральноазиатского региона и в качестве такового воспринимаются как «титульным» населением, так и, что немаловажно, властями соответствующих суверенных государств. На процессы аккультурации корейского этноса в Средней Азии, в общем, не смогли серьезно повлиять те послабления, в том числе в национально-культурной области, которые произошли после смерти Сталина. В Алма-Ате открылся корейский театр, стала выходить межреспубликанская газета на корейском языке «Ленин кичи» («Ленинское знамя»). Получив паспорта, корейцы смогли выезжать за пределы Средней Азии, искать родных, поехать на учебу и оседать в других районах СССР. К этому времени окрепли корейские колхозы, специализирующиеся на рисоводстве и овощеводстве. Уже в шестидесятые годы многие корейские семьи, используя традиционное трудолюбие и предприимчивость, занялись овощеводством на арендуемых площадях с последующей самостоятельной реализацией продукции. По сути дела, они оказались своего рода проводниками рыночной экономики в условиях советского социализма. Большую роль сыграла также сезонная сельскохозяйственная деятельность по выращиванию овощей и бахчевых культур, получившая название «кобонджи». Тысячи корейцев, организованные по семейно-клановому принципу, разъезжались из среднеазиатских республик по всему Советскому Союзу: в Поволжье, на Украину, на Северный Кавказ, в Сибирь и на Урал. Не будет преувеличением сказать, что почти весь лук, выращиваемый в СССР, выращивался корейцами, которые долгие годы не знали конкуренции в этой области. Однако никуда не делась и дискриминация, хотя и негласная, при приеме на работу, выдвижении на руководящие должности, при награждении. Корейцы как-то не очень вписывались в советскую жизнь и оставались, в общем-то, «под подозрением». Все это, естественно, рождало у них чувство морального дискомфорта, которое могло быть компенсировано лишь в материальной сфере. Отсюда уход многих корейцев в «теневую экономику» и рыночную торговлю. И все же к восьмидесятым годам большинство корейцев окончательно адаптировалось в Средней Азии, превратившись в органичную часть многонационального среднеазиатского сообщества. Новые поколения стали воспринимать бывшее место ссылки как свою родину, хотя старики по-прежнему хранили память о Дальнем Востоке и исторической родине – Корее. И передавали эту память своим детям и внукам. (Продолжение следует) * * * Об авторе: Михаил Калишевский - независимый журналист, живет в Москве. Статья написана специально для ИА «Фергана.Ру»
По стопам Арминия Вамбери: Как минский еврей Хаим Бенинсон половину Азии объехал21.02.2007 10:15 msk Виктор Дубовицкий
Туркестанские странствующие дервиши. Старинная открытка из коллекции ИА «Фергана.Ру»
Единственное сообщение о путешествии Хаима Бенинсона было опубликовано в «Биржевых Ведомостях» за 1869 год. Маленькая заметка имела достаточно интригующий заголовок - «Ташкентские знаменитости и авантюристы»: «В Ташкент стекаются разные авантюристы. В настоящее время здесь содержится весьма интересная личность, появление которой в Ташкенте, по все вероятности, не случайно. Этот интересный субъект был схвачен бухарскими властями в Карши, куда прибыл из Индии. Желая избежать трехсот палок, которые эмиром приказано было отпустить ему с целью вынудить сознаться, авантюрист назвал себя русским подданным, почему и был препровожден бухарцами в Самарканд. По дороге в Ташкент он назвал себя евреем, уроженцем Минской губернии, города Борисова, Хаимом Бенинсоном. Ему 24 года от роду, и хотя по наружности он более чем неказист, но способности имеет не дюжинные. Смышленость сквозит в каждой фразе. Языков знает немало: все главные европейские и азиатские, но образования сколько-нибудь научного не имеет. Быть захваченным врасплох, кажется, не входило в его расчеты. На допросах он противоречил в своих показаниях относительно целей своего путешествия: то он говорит, что путешествовал из любознательности, то будто бы имел желание возвратиться в свое отечество. О личности задержанного собираются сведения…» Работая в конце 1980-х годов в фондах Центрального государственного архива Узбекской ССР, автор этих строк совершенно случайно наткнулся в описи на папку с документами под длинным названием «О пойманном в Карши минском еврее Бенинсоне и о расходах на содержание его, переписка с начальником Зеравшанского округа и показания Бенинсона о подготовке Бухары к военным действиям». Обширная переписка Туркестанского военного начальства открывалась письмом начальника Зеравшанского округа, полковника А.К.Абрамова в канцелярию генерал-губернатора: «Милостивый государь Владимир Федорович! С капитаном Алтвиновым я отправил в Ташкент г. Бенингсона и приказал передать его начальнику штаба. Думаю, что ныне неудобно держать Бенингсона в Самарканде, что, по моему мнению, он – личность весьма подозрительная, и я склонен думать, что он больше никто, как шпион». Что и говорить – обвинение незадачливому путешественнику было предъявлено весьма серьезное. В Средней Азии еще пахло порохом недавних боев, назревали новые конфликты в Хиве и в Кокандском ханстве. Что же удалось выяснить о задержанном военным властям Туркестана? Хаим Бенинсон родился в 1845 году [по другим данным – в 1838. – прим. ред.] в городе Борисове в семье «винокура и одновременно торговца лесом и зерном». Воспитание он получил в доме отца. К двадцати годам Бенинсон поступает на службу к купцу, а затем, «испросив паспорт», едет в Петербург, надеясь устроиться в одной из торговых фирм столицы. Это ему не удается, и он решает отправиться за границу с одним из купеческих кораблей. Но в Кронштадте ему снова не везет – никто не хочет брать его без рекомендательных писем. Здесь он случайно узнает, что английский торговец хлопком Комберлейн ищет прислугу. Бенинсон предлагает свои услуги и отправляется в Лондон. Прожив в Англии полгода, он вместе со своим новым хозяином едет через Париж, Лион, Марсель, Суэц и Аден в Бомбей. В Индии Комберлейн имел две торговые конторы и Бенинсону пришлось много поездить по стране за время двухлетнего проживания здесь. Скопив две тысячи фунтов, он попробовал открыть свое дело – гостиницу для туристов. Но средств оказалось недостаточно и ему вновь пришлось искать место в торговле. В Калькутте он нанимается в фирму армянского торговца Сет Абкира, русского подданного, и на одном из его пароходов отправляется в Китай. По «делам торговым» Бенинсон побывал в Шанхае и Гонконге, Сингапуре и Малайзии. Наконец, он решает вернуться на родину. Он избирает наиболее короткий, но далеко не самый легкий и безопасный путь – через Афганистан, Иран и Среднюю Азию: «Выучившись магометанским молитвам и обрядам, он под видом лекаря», отправляется из Лахора через Пешавар, Джелалабад и Кабул, где пробыл около двух недель. Но на севере Афганистана в это время разгорелась междоусобная война? и Бенинсону пришлось вернуться в Индию. Весной 1869 года он вновь отправляет в путь, но несколько другим маршрутом: через Карачи и далее морем в Москат и Бедер-Бушир в Персидском заливе, а далее через Шираз, Исфаган, Астрабад и Мешхед до Герата, откуда он вновь надеялся попасть в Среднюю Азию. Отважный пилигрим, добравшись до Тегерана, попытался сократить путь и обратился к русскому консулу Зиновьеву с просьбой выдать ему паспорт и помочь добраться морем до Астрахани. Но Бенинсон ничем не смог подтвердить свое русское подданство, так как паспорт его был давно утерян, и ему было отказано... Наконец, из Герата он караванным путем добрался до Карши, «… где поместился в одном из городских караван-сараев и занялся осмотром города в течение шести дней… На седьмой день он нанял арбу и поехал в Самарканд. Он уже выезжал из Карши, когда неожиданно был остановлен близ дома, занимаемого бухарским наместником. Один из находившихся в карауле русских дезертиров указал на него, как на переодетого русского. Наместник убеждал его сознаться, кто он, так как обман его уже обнаружился, но Бенинсон оставался при своем первом показании, что он – араб и пришел в Карши снискать себе средства на жизнь, как часовых дел мастер и искусный лекарь… При наместнике он заметил двух русских, из которых один -–из Сибири, а другой – с Амура. Кроме того, в Карши осталось около десятка человек русских и семьдесят других были отосланы в Чарджуй». Намучившись с бесполезными допросами, бухарский наместник отправил «несговорчивого шпиона» в Бухару – на суд и расправу, где Бенинсон почел за благо все же назваться русским подданным, после чего и был выдан русским властям в Самарканд. Военное командование Туркестанского генерал-губернаторства очень заинтересовали сведения о войсках Бухары и политических симпатиях населения ханства, собранные попутно наблюдательным Бенинсоном. В августе 1869 года из Борисова в Ташкент пришло письмо, подтверждавшее личность задержанного, где одновременно говорилось, что «ныне Хаим Бенингсон состоит на рекрутской очереди по предстоящему набору в армию и потому общество борисовских мещан-евреев просит выслать его по месту жительства». Вся «архивная история» об отважном путешественнике кончается резолюцией Туркестанского генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана: «Расход в пятьдесят рублей на содержание Х.Бенингсона принять на счет казны, но сделать распоряжение об отправлении его на родину этапом, как только наступит теплое время». Дальнейшая судьба этого незаурядного человека неизвестна. * * * Об авторе: Виктор Дубовицкий - доктор исторических наук, действительный член Русского Географического общества, эксперт ИА «Фергана.Ру». Живет в Душанбе, Таджикистан.
* * * Февральской революции в Кыргызстане не будет. Но перемены уже готовят?21.02.2007 00:17 msk Артём Улунян Политическая нестабильность в Кыргызстане выходит на новый этап. Неутвержденный парламентом бывший премьер-министр Феликс Кулов, составлявший вместе с президентом Курманбеком Бакиевым так называемый «системный тандем», официально заявил о переходе в оппозицию. Являясь главой партии «Ар-Намыс» («Достоинство»), созданной им 9 июня 1999 г., он, в то же время заявил на специально собранной пресс-конференции: «мною принято решение не замыкаться в рамках только одной политической партии «Ар-Намыс», а объединить и возглавить разрозненные, но близкие по духу общественно-политические силы, те, которые хотят кардинальных позитивных перемен, кто желает работать на благо всего общества, а не прислуживать отдельным лицам или политическим группировкам». «Но было бы честным предупредить: тот, кто сегодня пойдет за мной, пусть будет готов к тому, что в действующей власти есть люди, способные на любую подлость. Я уже не говорю о том, что против нас могут быть запущены самые грязные политические технологии. Одним словом, это не просто позиционирование себя в оппозиции, это позиционирование себя в качестве противника тому, против чего выступают все порядочные люди», - заявил Феликс Кулов. Таким образом, складывается впечатление, что ситуация, в которой находится нынешний президент К.Бакиев, грозит перерасти в полномасштабный кризис и даже привести к революции, так как предыдущая - «тюльпановая» - не выполнила возложенные на неё задачи. Принятие новой конституции, которая усилила полномочия президента, несмотря на то, что осень 2006 г. требовала как раз обратного, свидетельствует об исчерпанности революционного потенциала в Кыргызстане. Однако существует реальная угроза обострения борьбы за власть с непредсказуемым числом участников. На данный момент силы оппозиции представлены различными партиями и организациями – членами политического движения «За реформы!», в политсовет которого вошли: Социал-демократическая партия в лице Алмазбека Атамбаева, Темира Сариева и Мелиса Эшимканова, Социалистическая партия «Ата мекен» Омурбека Текебаева, Болота Шерниязова и Чотонова, партия «Союз демократических сил» - Бакыт Бешимов и Омурбек Абдрахманов, партия «Асаба» - Азимбек Бекназаров, Жоошбаев, Дуйшеев; партия «Ар-намыс» - Эмиль Алиев и Мамырова. В то же время сам Алмазбек Атамбаев крайне скептически отозвался о возможности блокирования с Ф.Куловым, заявив, что поступок бывшего премьера вызван обидой на то, что Жогорку Кенеш – парламент Кыргызстана - забаллотировал его кандидатуру на новый премьерский срок. Одновременно, в отношении А.Атамбаева в кыргызстанском обществе также существуют, как сейчас принято говорить, неоднозначные настроения в силу многих, включая и личных, обстоятельств. Попытка Ф.Кулова объединить оппозицию, таким образом, может натолкнуться на определенное сопротивление, казалось бы, её потенциальных участников. Объявление о реанимировании Объединенного фронта «За достойное будущее Кыргызстана», созданного ещё в 2005 г., и фактически предназначенного ныне для бывшего премьера, включает на данный момент как его самого и возглавляемую ими партию «Ар-Намыс», так и депутатов Жогорку Кенеша Кубатбека Байболова, Омурбека Текебаева, Кабая Карабекова, Мелиса Эшимканова, экс-министр внутренних дел Омурбека Суваналиева, заместителя председателя партии «Ата-Мекен» Дуйшена Чотонова, лидера Партии зеленых Эркина Булекбаева, главу немецкой диаспоры Валерия Диля, одного из руководителей Движения «За реформы!» Омурбека Абдрахманова. Приход в руководство этой организации Омурбека Текебаева, лидера партии Ата-Мекен (Отечество) и бывшего спикера Жогорку Кенеша, являющегося одним из наиболее сильных парламентских политиков, вносит серьезные коррективы в сложившуюся ситуацию. Являясь одним из наиболее жестких критиков К.Бакиева, он, в тоже время, достаточно нейтрально ныне относится к бывшему президенту А.Акаеву. Следует иметь в виду, что на президентских выборах 2000 г. Текебаев получил 14% голосов избирателей, что, учитывая киргизские реалии того периода, было достаточно хорошим результатом. Он стал вторым после Акаева. В условиях существования фактически акаевского Жогорку Кенеша (парламента страны), когда на выборах 27 февраля и 13 марта 2005 г. в 75-местный однопалатный парламент прошло лишь 7 кандидатов от оппозиции, нынешний пост и влияние О.Текебаева имеют особое значение для «новой-старой» организации и самого Ф.Кулова. Примечательно, что 14 февраля текущего года А.Акаев заявил в Москве, что «возлагает серьезные надежды на Феликса Кулова как на сильного политика». Данное обстоятельство выглядит на первый взгляд тем более странно, что именно в годы пребывания у власти свергнутого президента Кулов отбывал тюремное заключение, а его партия подвергалась гонениям. Ставка на объединение оппозиции под началом бывшего премьер-министра и без участия в ней на данный момент таких решительных критиков акаевского режима и нынешнего президента К. Бакиева, как Роза Отунбаева – лидера Партии Ата-Журт (Родина), бывшего министра иностранных дел, бывшего посла в США и активной участницы «тюльпановой революции», хотя и растерявшей свой прежний политический капитал - даёт основания для предположений относительно возможного сценария развития событий. Первый из них может быть рассчитан на краткосрочную перспективу. Его основными элементами в этом случае могут стать усиление конфронтации власти и общества, недовольного политической и социально-экономической ситуацией. Как отмечалось ранее, по данным соцопроса, проведенного киргизстанским Институтом стратегического анализа и прогноза, 57 % респондентов считают возможным выступления граждан «в защиту своих политических прав». В этом случае вполне реальным становится революционный путь развития ситуации. Но, имея в виду образ действий Ф.Кулова в прошлом, силовые действия в создавшейся ситуации исключаются. В таком случае остаётся иная вероятная версия событий. Их основным содержанием должны будут стать легитимные шаги, направленные на устранение от власти К.Бакиева, не смогшего обеспечить существование тандема. Нынешний состав Жогорку Кенеша, избранного еще при А.Акаеве, будет в этом случае, с одной стороны, демонстрировать лояльность действующему президенту, а, с другой, способствовать консолидации оппозиции с активным участием его наиболее влиятельных членов. Примечательно, что вновь, как это уже было в период мартовской революции 2005 г., в ряде прогнозов, авторы которых находятся за пределами Кыргызстана, муссируется тема некой «борьбы юга и севера». Этот сценарий часто озвучивался в явно пропагандистских и отнюдь не в научно-познавательных целях, а в интересах актуализации соперничества выходцев из различных областей Кыргызстана для проведения вполне конкретной политики. На данный момент подобный аргумент совершенно не приемлем. Достаточно посмотреть на состав руководства Кыргызстана ( см. таблицу на веб-сайте Tazar ). Патовая ситуация может длиться сколь угодно долго, но в результате она окажется наиболее опасной именно для К.Бакиева. Примечательно, что, как показывает опыт появления политических партий в новейшей истории суверенного Кыргызстана, в самые кризисные годы их число резко снижается, за счёт консолидации сил, но именно это и представляет угрозу для власти.
Однако во всех этих калькуляциях просматриваются очертания и других, помимо упомянутых, сил. Прежде всего, речь идёт о тех из них, кто стоит за А.Акаевым и, вероятно, уже сейчас скоро станет за Куловым не только в самом Кыргызстане, но, в большей степени, за его пределами. Не секрет, что бывший премьер нередко позиционировался именно как выходец из правоохранительной системы, а его пребывание с К.Бакиевым в тандеме было призвано «уравновесить», в случае слишком большого крена в сторону Запада, нового президента. Ставка на так называемых «силовиков» советского периода – реальная или мнимая – уже достаточно часто оглашалась в ряде анализов и прогнозов (достаточно вспомнить происходившее весной-летом 2005 г. в Узбекистане и в декабре 2006 г.- январе 2007 г.) в Туркменистане, чтобы понять, о какой поддержке Кулову и с чьей стороны может идти речь. * * * ОБ АВТОРЕ: Артём Улунян - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт ИА "Фергана.Ру".
* * * Узбекистан: Высыхание Аральского моря приносит пользу местным птицеводам21.02.2007 08:31 msk Соб. инф. Фергана.Ру У работников Хорезмского предприятия «Хивинская птица» появилась перспектива получать на пять миллионов куриных яиц больше, не увеличивая при этом количество несушек. Это становится возможным благодаря специальному корму с добавлением рыбьего жира и костей, а также ракушек, которых полно на высохшей территории Аральского моря. По словам сотрудников названного предприятия, эксперимент дал свои положительные результаты уже в январе месяце: куры стали нестись чаще, чем обычно. Успехам хивинских птицеводов также благоприятствует партнерство с коллегами из Московской области России, откуда завозится новое техническое оборудование.
* * * Узбекистан: Власти Хорезма отключают газ потребителям, требующим его регулярной подачи21.02.2007 09:02 msk Довуд Сулаймон Фергана.Ру В последние годы в Хорезме сокращается подача газа и электроэнергии населению в зимнее время. Стало привычным, когда электричество не подается несколько часов в день, а давление газа слишком низкое или его нет вовсе. По словам руководителя правозащитной организации «Нажот» («Спасение») Хайитбоя Якубова, в 2007 году число случаев отсутствия газа и отключения электроэнергии увеличилось в Ургенчском, Боготском, Янгиарикском, Хивинском и других районах Хорезмской области. Некоторые семьи живут в одной комнате, которую топят с помощью дров. Однако дрова теперь тоже становятся непозволительной роскошью – деревья в округе уже давно вырублены. Были случаи, когда люди умудрялись высасывать природный газ для своих домов с помощью водонасосов. Нарушения правил использования электрических нагревательных приборов становятся причиной частых пожаров. Реакция властей на редкое выражение недовольства населения мгновенна – их сразу лишают и того, что они получали до этого. - Люба Серова из Хазораспского района пожаловалась руководителю администрации района, - рассказывает правозащитник Хайитбой Якубов. – В ответ на ее жалобу хоким района велел отключить от газа всю улицу Алишера Навои, на которой проживает Люба Серова. А в дома на другой улице, недалеко от дома жалобщицы, там проживают чиновники, газ в дома поступает нормально. В последнее время перебои с подачей энергоносителей участились и в областном центре - Ургенче, чего раньше не бывало. Обращения жителей города в местные инстанции остаются без ответа.
* * * Узбекистан: «Coscom» по-прежнему лишен возможности работать полноценно21.02.2007 11:27 msk Соб. инф. Фергана.Ру Третий по величине узбекистанский оператор сотовой связи «Coscom» по-прежнему лишен возможности полноценно работать в республике. Абоненты компании в Ташкенте и Ташкентской области, в Самарканде и в Самаркандской области могут осуществлять связь и обмениться SMS-сообщениями только внутри сети «Coscom», а также с абонентами компании «Beeline», кроме того, для них доступны услуги международной связи и роуминга. Но в целом сеть до сих пор не включена. «По независящим от компании «Coscom» причинам мы не можем оказывать услуги в полном объеме на территории всей республики», - говорится в пресс-релизе на сайте компании. 20 февраля генеральный директор «Coscom'а» Абрахам Смит встретился с журналистами. Он сообщил, что, несмотря на официальное заключение о том, что оборудование и все системы компании признаны «удовлетворительными», работа «Coscom'а» была восстановлена лишь частично. Приостановку лицензии из-за недолгого отключения связи он назвал прецедентом, «уникальным» для Узбекистана и стран СНГ вообще, а действия властей счел «очень жесткими». Гендиректор «Coscom'а» осторожно избегал определений, способных привести к прямой конфронтации с властями республики, и заявил, что компания «постарается избежать разрешения дела через суд», так как считает приоритетным восстановление своих услуг и доверия абонентов. Абрахам Смит также опроверг измышления интернет-изданий о подковерной борьбе за приобретение «Coscom'а» и намеренной провокации властей для снижения капиталоемкости компании. «Я не вижу в них правды», - сказал он о содержании этих публикаций. В то же время представители компании прямо указывают на организации, препятствующие деятельности «Coscom'а» в Узбекистане: «К сожалению, в настоящее время мы не можем сообщить о точных сроках решения вопросов, связанных с полноценным оказанием услуг на территории всей республики. Это зависит от оперативности и технической возможности предоставления нам каналов со стороны сторонних организаций: АК «Узбектелеком», СП «East Telecom», - сообщается в пресс-релизе «Coscom'а». «Мы направили специальное письмо в УзАСИ с просьбой разъяснить ситуацию, - сказал пресс-секретарь «Coscom'а» Алексей Минин. - Потому что УзАСИ - это орган, контролирующий деятельность телекоммуникаций на рынке республики и осуществляющий надзор за качеством сетей в пределах всей страны. А в законах о телекоммуникациях сказано, что потоки предоставляются в равной степени всем участникам рынка, работающим в республике. Это относится ко всем компаниям - и к «МТС», и к «Coscom'у», и к «Beeline», а если завтра будет зарегистрирован еще один оператор сотовой связи - и к нему тоже. Именно УзАСИ контролирует всех сотовых операторов на территории страны». Между тем, дипломатические реверансы представителей «Coscom'а» в адрес узбекских властей не в состоянии отвлечь внимание от того факта, что ни одно государственное ведомство (в данном случае УзАСИ) не может самостоятельно решать судьбу крупной компании, используя для этого явно надуманные предлоги. Тем более - откровенно разорять ее. И если это все же происходит, то это значит, что у неких чрезвычайно влиятельных лиц узбекского истэблишмента имеются для этого свои причины. Причины весьма веские и очень осязаемые... 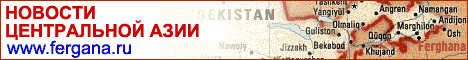
|
| В избранное | ||

