Известия о Миклагарде
|
Известия о Миклагарде 2013-12-25 21:41 Сергий Сергий: Цитата (Рекуай @ Июл 28 2013, 17:34) Про Константинополь "скальды" наверное такое же в уши дружинам конунгов на пирах дули. Не ранее XI столетия Вот, например (около 1030-х годов): Цитата Харальд провел в Гардарики несколько зим и ходил походами по Восточному Пути. А потом он отправился в поход в Страну Греков, и у него была большая дружина. Он дошел до Миклагарда. Бёльверк так говорит: В переводе на русский язык Миклагард "исчез" из драпы. Но он был... Шли вперёд одеты В сталь – и снасть блистала Богато – под ветром Крепким вепри моря. Узрил златоверхий Град герой, там стройных Стругов мимо башен Череда промчалась. Цитата Haraldr dvaldist í Garðaríki nökkura vetr ok fór víða um Austrveg. Síðan byrjaði hann ferð sína út í Grikkland ok hafði mikla sveit manna; þá hélt hann til Miklagarðs. Svá segir Bölverkr: "Хеймскрингла" Сага о Харальде Суровом (Haralds saga harðráða) Hart kníði svöl svartan snekkju brand fyrir landi skúr, en skrautla báru skeiðr brynjaðar reiði. Mætr hilmir sá málma Miklagarðs fyrir barði, mörg skriðu beit at borgar barmfögr hám armi. Ликбез для "чайников" 2013-12-25 21:50 kusaloss kusaloss: я раньше в варбанд играл и там можно было выбирать каким DirectX ом воспроизвести игру и я с 9 на 7 переключался . шяс хочу поиграть в Call of Duty 2 моя первая игра а мне пишет что DirectX не подходит Ликбез для "чайников" 2013-12-25 22:03 Saygo Saygo: Цитата (kusaloss @ Сегодня, 22:50) шяс хочу поиграть в Call of Duty 2 моя первая игра а мне пишет что DirectX не подходит Я гонял в нее на DirectX 9.0с, я даже в первый CoD играл на той же системе. Скорее всего не хватает какого-нибудь файла в комплекте DirectX, скачайте полную сборку всех пакетов DirectX 9.0с или DirectX 9.0d и обновите. Если не помогает - значит дистрибутив игры другой попробуйте.И смотрите, когда будете проходить миссию с американским снайпером, валите именно немецких минометчиков, а не всех подряд. Ликбез для "чайников" 2013-12-25 22:11 kusaloss kusaloss: вот что мне этот гад пишет DirectX encountered an unrecorable error check the DirectX ® FAQ for possible solutions Ликбез для "чайников" 2013-12-25 22:25 Saygo Saygo: Попробуйте все-таки не удревнить, а обновить DirectX. Если не работает, попробуйте найти и скачать другой дистрибутив игры. Надо сказать, что игра вышла в приснопамятное время, когда агэпэшные видюхи начали сменяться на писиайные. У меня даже была прикольная материнка, которая одновременно поддерживала AGP и PCI-Express. Ностальгия... Ликбез для "чайников" 2013-12-25 22:38 kusaloss kusaloss: ага ностальгия помню я только только ноут купил как раз это время было и расстреливая немчуру и не заметил как новый год прошел . блин я тогда был ребенком Государство иезуитов в Парагвае 2013-12-26 08:40 Saygo Saygo: М. В. Зуева. «Государство» иезуитов в Парагвае «Государство» иезуитов в Парагвае (1610-1678 гг.) почти с самого начала существования привлекало к себе внимание общественности, став предметом исследования большого числа ученых, социальных теоретиков, позднее - этнологов. В XVIII в. его изучали французские философы, считая его идеальным обществом; в начале XIX в. романтисты видели в этом «государстве» «расцвет прекрасных дней нового христианства»{1}; в конце XIX столетия его брали за образец британские социалисты. Как бы мы ни оценивали достижения иезуитов в колониальном Парагвае, они, безусловно, были уникальны. В отдаленном регионе, сейчас в основном покрытом непроходимыми субтропическими лесами, иезуиты создали, по мнению некоторых ученых, не просто новое общество, а сильную процветающую цивилизацию, которая теперь лежит в руинах, почти заброшенных, но по-прежнему прекрасных. В XVII-XVIII вв. на месте этих развалин стояли тридцать городов - так называемых «иезуитских редукций»{2}, куда миссионеры-иезуиты собирали индейцев не только для того, чтобы христианизировать их, но и чтобы защитить от португальских работорговцев и испанских колонистов. За необычайно короткое время талантливые, ранее не учившиеся ничему подобному индейцы создали удивительный мир красоты и грации, мир, который даже Вольтер, фактически ненавидевший церковь как институт, назвал «торжеством гуманизма», а английский писатель Гилберт Честертон определил его как «Рай в Парагвае»{3}. Если бы не молчаливое свидетельство прекрасных, изящных, вырезанных из камня статуй и руин величественных церквей, все это могло бы казаться сказкой. «Республика» иезуитов в Парагвае была своеобразным гуманитарным экспериментом, который, увы, не был завершен к моменту изгнания иезуитов из Латинской Америки в 1768 г. Немного об иезуитах Основателем Общества Иисуса (лат. Societas Jesu - именно так звучит официальное название ордена иезуитов) был св. Игнатий Лойола, в юности мечтавший о военной карьере и вовсе не помышлявший о духовном поприще. Однако мечтам молодого человека не суждено было сбыться: из-за тяжелого ранения, полученного в одном из боев, он был вынужден оставить армию. С трудом оправившись от раны после длительного и болезненного лечения, Лойола почувствовал в себе призвание к священнической деятельности. Изучая все необходимые для посвящения в духовный сан гуманитарные дисциплины, он провел несколько лет в лучших университетах Европы того времени, где и встретил преданных друзей, ставших в последствии первыми иезуитами. Общество Иисуса было основано папской буллой «Regimini militantis Ecclesiae» 27 сентября 1540 г.; целью ордена стало распространение христианства и борьба с Реформацией. С момента основания Общество Иисуса было совершенно непохожим на другие ордены. Однако в данной статье автор не будет слишком углубляться в эти различия, а отметит лишь наиболее важное для выбранной темы: орден иезуитов начисто порывал с децентрализованным устройством старинных средневековых орденов, которые к тому времени находились в стадии упадка, не в силах ответить на вызовы Реформации. Внутри Общества Иисуса существовала жесткая иерархия: во главе ордена стоял генеральный настоятель (сокращенно - генерал), избираемый пожизненно. Строжайшее и беспрекословное подчинение младших по положению старшим было (и по сей день остается) одним из основных принципов внутреннего устройства ордена. Говоря о миссионерской деятельности, следует отметить, что для более гибкого и быстрого управления весь Старый и Новый Свет, а также азиатские страны были поделены на особые административно-территориальные подразделения - провинции, во главе которых стоял провинциальный настоятель (провинциал), провинции объединялись в более крупные подразделения - ассистенции во главе с ассистентом. Границы иезуитских провинций существовали как бы сами по себе, далеко не всегда (а точнее, очень редко) совпадая с политическими границами государств, колоний или границами пастырской ответственности епархий. Провинциалы подчинялись ассистентам, а те, в свою очередь, генералу. Провинциалы же осуществляли руководство рядовыми священниками. Генерал и ассистенты были обязаны жить в Риме. Следует подчеркнуть также, что иезуитам было позволено носить мирскую одежду, что для той эпохи было почти неприемлемо; у них не было закрытых монастырей - они жили небольшими общинами, а иногда (если того требовали пастырские нужды) и поодиночке. Все это существенно облегчало миссионерскую деятельность. На этом поприще иезуиты добились весьма неплохих результатов. Однако не следует преувеличивать их достижения. К сожалению, очень многие миссионеры использовали средневековые методы проповеди: они обращались к массам, а не к личности, довольствуясь скорее большим числом обращенных, нежели глубиной их веры. Количество, к сожалению, было в ущерб качеству. Эту методику впоследствии раскритиковали сами же иезуиты и поспешили отказаться от нее, предпочитая теперь обращать в христианство меньшее количество людей, но внимательно следить за тем, чтобы крещение было не простой формальностью, а осознанным актом веры. Немаловажно также, что, в отличие от миссионеров эпохи Средневековья, иезуиты неизменно принимали во внимание культуру, обычаи и традиции народа, среди которого они проповедовали. Это помогало не только успешно прививать христианские ценности доселе не знавшим их людям (что и являлось основной целью), но и сохранять традиционную культуру народа, а иногда и защищать его от полного исчезновения. Парагвай и гуарани «Сердце Латинской Америки» - так часто называют Республику Парагвай, государство, лежащее почти в центре южноамериканского континента. Природа щедро одарила эту страну: простор широких и быстрых рек, сень густых тропических лесов, своеобразная красота засушливого Чако, болотистые низменности, плодородные равнины и невысокие горы - все это необычайно гармонично сочетается на сравнительно небольшой территории Парагвая. Следует сразу уточнить, что термин «Парагвай» в данной работе будет использоваться не в современном его значении, а для обозначения обширной территории, находившейся под властью вице-королевства Перу и подчинявшейся губернатору Асунсьона. Эта область включала в себя часть территорий современных Боливии, Аргентины и Уругвая. Иезуиты вкладывали иной смысл в понятие «Парагвай»: они употребляли его для наименования своей собственной административной единицы, называемой «провинцией». Иезуитская провинция Парагвай состояла не только из территории самого Парагвая, она включала в себя также всю Аргентину, весь Уругвай и бразильскую провинцию Рио-Гранде-до-Сул. К моменту появления в Парагвае первых миссионеров эта страна была покрыта почти непроходимыми дикими лесами. В них обитали различные индейские племена, недоверчиво, а зачастую и враждебно настроенные к чужакам. Говоря об индейцах гуарани, следует упомянуть, что в изучаемый период они были расселены не только в окрестностях Асунсьона, но на очень обширной территории, простирающейся от Гайаны на севере до эстуария реки Ла-Платы на юге. Первые испанские колонисты называли гуарани «индейцами островов», поскольку последние жили также на многочисленных островах по руслу рек Парана и Парагвай. Слово «гуарани» с собственно языка гуарани переводится как «воин»{4}. Несмотря на столь недвусмысленное определение, индейцы гуарани были относительно мирными (по крайней мере, по сравнению с дикими племенами Чако). В отличие от своих соседей - тех же индейцев Чако (гуайкуру, тоба, мбайа и др.) или керанди, чарруа и других бродячих племен бассейна Параны и Уругвая, занимавшихся охотой и рыболовством, - гуарани вели почти оседлый образ жизни. Основу их хозяйства составляло подсечно-огневое земледелие; они выращивали неприхотливые культуры, такие как маниок (растение, характерное для всей Южной Америки), сладкий картофель, тыкву. Через пять - шесть лет, когда почва истощалась, индейцы переходили на другое место. Однако охота и рыболовство играли очень важную роль в обеспечении их жизнедеятельности, хотя некоторые ученые считают иначе. Гуарани жили небольшими общинами в тех местах джунглей, где лес был более или менее прозрачным, или на берегах рек, там, где лес подступал близко к воде. Каменных построек у них не было. Вот как описывает дома гуарани один из первых миссионеров-иезуитов: «Их жилищами были жалкие хижины, стоящие в лесах и сделанные из сучьев деревьев и бамбука, беспорядочно собранных вместе. Вход был настолько маленьким, что туда можно было пробраться только ползком. Когда индейцев спрашивали о причине столь странного приспособления, те отвечали, что только так они могут защититься от мух, муравьев и других насекомых... а также укрыться от вражеских стрел и дротиков»{5} (перевод наш. - М. 3.). Конечно, вряд ли жилища гуарани представляли собой столь убогие лачуги, но как еще европеец эпохи раннего нового времени, привыкший к пышным, величественным каменным постройкам, мог воспринять традиционное жилище индейцев, непрезентабельный внешний вид которого был продиктован довольно суровыми условиями обитания? Родовые общины управлялись вождями (касиками); должность касика обычно передавалась по наследству, но им мог стать только человек, проявивший себя храбрым и сильным воином. Гуарани были свободолюбивым народом, у каждого из племен были свои законы, и только опасность войны могла объединить их. Тогда созывался совет касиков, который ведал вопросами войны и мира и назначал военных вождей. Нельзя не упомянуть, что гуарани были каннибалами, однако их каннибализм носил сугубо ритуальный характер. Они выбирали свои жертвы из наиболее доблестных врагов, захваченных в плен во время войны: гуарани верили, что вместе со съеденной плотью храбрость воина перейдет к ним. (Это верование вообще было довольно широко распространено среди «примитивных» народов.) Религиозная составляющая жизни гуарани заслуживает отдельного рассмотрения. С самого начала периода испанского завоевания внимание конкистадоров и коло-нистов привлек тот факт, что у гуарани не было ни храмов, ни идолов, ни изображений, которым бы индейцы поклонялись, ни религиозных центров. Это навело испан¬цев на мысль о том, что они столкнулись с народом, у которого вообще отсутствовали какие бы то ни было религиозные представления. Ситуация, однако, была прямо противоположной: гуарани были настолько глубоко религиозны, что не нуждались ни в храмах, ни в рукотворных идолах. Первые миссионеры-иезуиты Мануэль де Ортега и Томас Фильдс отмечали, что гуарани «близки к познанию Царства Божия»{6}. Индейцев гуарани можно без преувеличения назвать монотеистами. Ньяндеругуасу (Nanderuguasú) - «наш большой отец», Ньяманду (Namandú) - «первый, источник и начало», Ньяндехара (Nandejara) - «наш господин» - вот имена божества, который, по вере гуарани, был невидимым, извечным, вездесущим и всемогущим. Его духовная сущность, дабы человек мог обратиться к нему, снисходила до конкретной формы Тупа (Tupa), что в переводе с гуарани означает «гром». Тупа было множество, и они проявлялись в разнообразии явлений природы и космоса, но никогда не принимали видимую форму. Ньяманду не был богом исключительно народа гуарани, но считался богом и отцом всех людей. Из вышесказанного можно заключить, что успех иезуитов в деле христианизации гуарани во многом объяснялся религиозной спецификой и особенностями жизнедеятельности этого народа. Привыкшие к полуоседлому образу жизни и земледелию, пусть и в примитивной форме, гуарани с готовностью поселялись в редукциях, а их вера в Единого Отца всего сущего как бы заранее подготовила их к относительно легкому принятию христианства. Конкиста положила начало христианизации индейцев всей Латинской Америки, поскольку вместе с конкистадорами приходили и священники, ведомые искренним желанием принести свет Евангелия языческим народам. Парагвай не был исключением. Первыми миссионерами среди индейцев этого региона, в том числе и среди гуарани, были монахи из ордена францисканцев{7}. Систематическую евангелизацию гуарани можно отсчитывать с 1550 г., когда в Асунсьоне был образован епископат, чья юрисдикция распространялась на весь регион Ла-Плата. Многие индейцы, населяющие территорию вокруг Асунсьона, приняли христианство, но их христианизация носила весьма поверхностный характер, поскольку сама миссионерская стратегия изначально была неверной. Священники работали поодиночке; ведя странствующую жизнь, они переходили от одного временного поселения индейцев к другому, проповедовали и крестили взрослых. Таким образом, обращенные индейцы оставались без пастыря, без богослужений и публичных молитв, некому было дальше наставлять их в вере. Иногда дело доходило до совсем смешных казусов. Например, видя, что для того, чтобы называться христианином, надо принять крещение (для индейцев это таинство выглядело как простое обливание водой), многие индейцы объявляли себя христианами на том основании, что вошли в церковь во время окропления{8} и несколько капель воды упало и на них. Немудрено, что в подобной ситуации Бог в сознании индейцев больше ассоциировался с родными, привычными им мифами и верованиями, чем с христианским учением. Для того чтобы успешно христианизировать индейцев, их следовало собрать в постоянные поселения. Это осознавали как церковные, так и светские власти, в частности губернатор Асунсьона Алвар Нуньес Кабеса де Вака. Он хотел не только помочь делу евангелизации местного населения, но и защитить гуарани, особенно женщин, от притеснений, которые те постоянно испытывали от испанцев. Женщины гуарани отличались, по словам очевидцев, необычайной красотой, и состоятельные испанцы не стыдились окружать себя целыми гаремами из индианок, что не только коренным образом противоречило христианскому вероучению, но и подрывало доверие индейцев к светским властям. Именно гуманное отношение Кабеса де Ваки к индейцам вызвало недовольство колонизаторов и в дальнейшем послужило причиной его отставки, что, в свою очередь, повлекло за собой длительный перерыв в деле христианизации гуарани. Полноценная и серьезная систематическая евангелизация гуарани за пределами Асунсьона и прилегающих территорий возобновилась только в 1575 г., когда в Парагвай прибыл монах-францисканец Луис де Боланьос. Именно он начал собирать гуарани в постоянные поселения, создавая первые редукции, которые потом развивались под управлением иезуитов. На территории провинции Гуайра (которая в наши дни является частью Бразилии) между 1580 и 1593 гг. он основал 18 деревень гуарани. Боланьос также был первым, кто в совершенстве овладел языком гуарани, понимая огромное значение проповеди Евангелия и объяснения истин веры на родном языке народа. Будучи не только прекрасным миссионером, но и блестящим ученым, Болань- ос создал для языка гуарани письменность (на основе латинского алфавита), составил первый учебник и словарь, а также перевел на гуарани части катехизиса и составил молитвенник. В написании лингвистических трудов миссионеру помогали два священника креола. Достижения Луиса де Боланьоса стали отправной точкой всей работы иезуитов, которую те в дальнейшем проводили в области языка гуарани. Следует особо отметить, что в задачу Боланьоса входило не только простое изучение языка индейцев, но и частично создание нового языка. Ведь те слова и понятия, которые больше всего были нужны для перевода катехизиса, в сознании индейцев прочно ассоциировались с колдовством и суевериями. Подобные слова следовало перестать употреблять в проповеди и заменить другими{9}. Боланьосу удалось и это. В целом он проповедовал среди гуарани на протяжении 54 лет; иезуиты, прибывшие в Парагвай в конце XVI в. и продолжившие его дело, обязаны ему очень многим. Иезуиты в Латинской Америке Для того чтобы перейти непосредственно к рассмотрению деятельности иезуитов в Парагвае, целесообразно вкратце осветить историю миссий иезуитов на территории Латинской Америки и основные принципы их миссионерской деятельности. Первые иезуиты появились в Южной Америке в 1549 г. Это была группа из шести священников, которые сошли на берег Баии в Бразилии, куда они были призваны правительством Португалии. Своей главной задачей в Америке, как и в других странах, орден, безусловно, считал обращение местного населения в христианство. Однако проблема, которую предстояло решить иезуитам, была не только чисто миссионерской, но и серьезной культурологической, волновавшей, по словам Г. Бемера, церковные и светские власти Латинской Америки на протяжении нескольких поколений{10}. Христианизация индейцев была тесно связана с так называемым «индейским вопросом», заключавшимся в том, можно ли обращать индейцев в рабство. Несмотря на то, что еще в 1537 г. папа Павел III издал буллу, объявлявшую преступлением порабощение индейцев - как принявших христианство, так и язычников, светские власти Португалии фактически проигнорировали этот документ. Иезуиты же в решении индейский вопроса неукоснительно следовали принципам, которыми в свое время руководствовался Бартоломе де Лас Касас - монах-доминиканец, известный защитник индейского населения, решительно выступавший против порабощения туземцев. Подобно ему иезуиты сразу отвергли возможность любой принудительной работы индейцев на белых колонистов, в том числе и в относительно мягкой форме энкомьенды (исп. - encomienda), при которой индейцы как бы «поручались» конкистадору с целью взимания налогов и наставления в христианской вере. При разрешении индейского вопроса иезуиты при-знавали только один вид конкисты - духовную конкисту, как они ее называли, conquista spiritual. Ее единственным орудием была проповедь и слово Божие, а целью - обращение индейцев в христианство. Надо сказать, что эта идея тоже изначально принадлежала Лас Касасу, но иезуиты были первыми, кто предпринял систематические (и весьма успешные) попытки проведения духовной конкисты. Они первыми отдавали все свои силы для того, чтобы осуществить эту конкисту среди гуарани Парагвая и Уругвая, среди чикитос и мохос Перу, арауканов Чили и ряда других племен не только Южной, но и Северной Америки. Первые шаги в деле христианизации коренного населения Америки были сделаны иезуитами в Бразилии. Именно здесь они столкнулись с проблемой индейского вопроса и нашли пути его разрешения. На момент появления в Бразилии иезуитов колонизация этой территории только-только начиналась: португальцам удалось занять лишь несколько пунктов на побережье. То есть на этой территории практически отсутствовала даже светская власть, не говоря уже о церковной организации, которой не существовало вовсе. Иммиграция в новую колонию была весьма малочисленной и состояла в основном из завсегдатаев портовых притонов и кабаков Лиссабона. Единственным существенным результатом подобной иммиграции стало появление большого количества метисов - детей, рожденных от свободных союзов (увы, нравственный уровень мигрантов оставлял желать лучшего) белых европейцев и женщин-индианок, преимущественно из гуарани. Простые матросы, авантюристы, ссыльные преступники - словом, представители низших слоев португальского общества, первые мигранты в силу своей социальной принадлежности не могли быть образованными и гуманными людьми. Поэтому индейский вопрос, который возник в колонии с самого начала пребывания там европейцев, они разрешили в высшей степени грубо и просто: белый колонист мог сделать с индейцем все что хотел. Считалось вполне в порядке вещей, что европеец может убить туземца или обратить в рабство столько краснокожих, сколько ему будет угодно. Иезуиты думали иначе. Они тотчас начали борьбу за свободу индейцев и без промедления стали проповедовать Евангелие среди гуарани и тупи на их родном языке. Иезуиты обращали и крестили индейцев не только на побережье, но и организовывали смелые экспедиции вглубь региона. Первые миссионеры были людьми необычайно храбрыми, мужественными, исполненными глубокой искренней веры и самоотречения. Они были готовы преодолеть любые трудности и принять самую мучительную смерть, священники продвигались по непроходимым лесам Бразилии, встречая зачастую очень враждебное отношение местного населения. Однако многие племена удавалось если не христианизировать, то, по крайней мере, замирить (так впоследствии произойдет и в парагвайском Чако). Светская власть в колонии укреплялась во многом именно благодаря усилиям миссионеров. Иезуитов очень беспокоил тот факт, что из-за постоянной перемены мест обитания многие обращенные в христианство индейские племена выходили из-под их духовной власти и возвращались к своим верованиям. Миссионеры осознавали, что все их труды окажутся бесплодными, если не сделать новообращенных оседлыми. С 1558 г. первый настоятель провинции Бразилия Мануэль де Нобрега стал собирать крещеных индейцев и селить их в постоянных поселках, где они должны были все время находиться под надзором миссионеров. Однако иезуиты прекрасно понимали, что делать это совершенно бесполезно, если одновременно не изолировать местное население от воздействия белых колонистов. Поэтому в ближайшие годы они использовали все свое влияние, которым обладали при португальском дворе, с целью добиться запрета порабощения индейцев. Но, к сожалению, миссионеры не нашли реальной поддержки в Лиссабоне. Для того чтобы провести серьезные законы, у правительства Португалии не хватало ни денежных средств, ни доброй воли; влияние на собственных же подданных в колонии было очень слабым. Несмотря на то что в 1574 г. король Себастьян издал указ, в котором, в частности, говорилось, что все индейцы постоянных миссионерских поселений считаются свободными людьми и корона берет на себя обязательства по их защите, белое и метисное население колонии мало считалось с волей своего короля. Это повлекло за собой длительное противостояние иезуитов и колонистов, которое позднее приводило даже к вооруженным конфликтам. Особую опасность для индейцев, живущих в миссиях, представляли отряды охотников за рабами, так называемых «паулистов» (от названия штата св. Павла в Бразилии), известных также под названиями «бандейранты» (от порт. bandeira - «знамя») и «мамелюкос», поскольку по своей жестокости они не уступали османским завоевателям в Европе. Эти отряды состояли из метисов и креолов. Позднее, когда были основаны редукции в Парагвае, который был испанской колонией, миссионерские поселения очень часто страдали от набегов «паулистов», и конфликт приобретал уже политическую окраску. 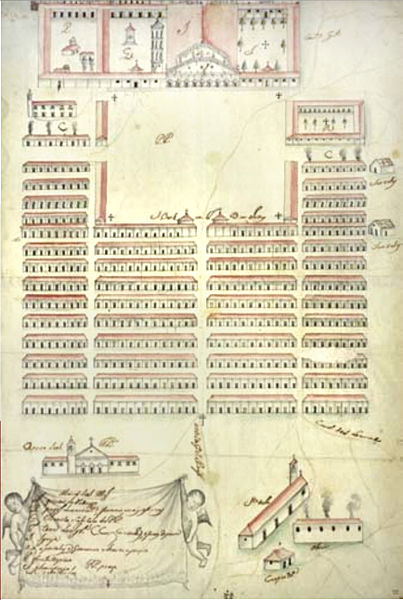 Plano da Redução de São Miguel Arcanjo Следует отметить, что испанское правительство отнеслось к индейскому вопросу с большим вниманием и уважением по отношению к местному населению. Поэтому именно на территории испанских колоний иезуиты смогли в полной мере предпринять conquista spiritual, не только не встречая сопротивления светских властей, но и получая от них поддержку. Первой испанской колонией, где иезуиты начали вести миссионерскую деятельность, была Перу. Нельзя сказать, что христианизация населения Перу была очень успешной, так как первоначально иезуиты довольствовались поспешным обращением индейцев и массовыми крещениями. Этот метод был абсолютно бесперспективен, и генеральный настоятель Общества Иисуса Клаудио Аквавива впоследствии подверг его суровой критике. Однако большое количество крещений привлекло к себе внимание церковных властей, поэтому иезуиты были приглашены и в Парагвай для дальнейшего распространения христианского вероучения среди индейцев. Иезуиты в Парагвае Обширная территория, которую охватил своей проповедью Луис де Боланьос, находилась под юрисдикцией двух епископов, кафедры которых располагались одна в Тукумане, а другая - в Асунсьоне. Епископ Тукумана Франциск де Виктория был первым, кто пригласил в свой диоцез{11} иезуитов, которые на тот момент уже находились на территории Бразилии и Перу. Именно оттуда и были направлены восемь священников, но только трем из них, знавшим один из языков тупи, было суждено начать работу среди гуарани. Ими были португалец Мануэль де Ортега, ирландец Томас Фильдс и каталонец Хуан Салони. Это были поистине мужественные, храбрые люди, преисполненные религиозного рвения и решимости нести истины веры народам, доселе не знавшим их. На протяжении последующих двенадцати лет эти священники вели тяжелую, требующую настоящего героизма миссионерскую работу, которая на тот момент казалась малообещающей. В 1599 г. Ортега и Фильдс были отозваны в Асунсьон (только через одиннадцать лет они продолжили работу среди гуарани). Однако благодаря заслугам этих первых миссионеров стало ясно, что, во-первых, гуарани очень многочисленны, во-вторых, они открыты для восприятия христианского учения и, в-третьих, им нужно намного больше, чем странствующий проповедник, который просто крестил индейцев в одном поселении и тотчас же переходил в другое. В 1602 г. судьба миссий среди гуарани неожиданно повисла на волоске: Клаудио Аквавива приказал сократить количество миссионеров. В иезуитской провинции Перу, к которой на тот момент принадлежали священники, проповедовавшие на территории Парагвая, была созвана конференция, предписавшая миссионерам покинуть Парагвай. Однако священники яростно протестовали, и дискуссия была продолжена, разрешившись в конечном итоге в пользу миссий уже на синоде, созванном в Асунсьоне. Именно на этом синоде, учитывая опыт миссионеров-францисканцев и первых иезуитов в деле христианизации гуарани, была создана своего рода программа дальнейших действий. Прежде всего четко устанавливалось, что все наставления должны даваться индейцам на их родном языке, поэтому священникам, которые собирались стать миссионерами, строго предписывалось знать хотя бы гуарани. Синод постановил также, что надлежит использовать катехизис Луиса де Боланьоса для того, чтобы слова и понятия, переведенные им, стали универсальными. На синоде было решено собрать индейцев в постоянные поселения для более успешной христианизации и для того, чтобы защитить их от испанских колонизаторов. В то же время присланный Аквавивой визитатор{12} Паец предложил объединить территорию, лежащую к востоку от реки Уругвай и населенную гуарани, с территорией бразильских гуарани в один миссионерский округ. Это был разумный план, выполнение которого существенно облегчило бы работу миссионеров и помогло избежать дальнейших противоречий (этот регион впоследствии станет предметом ожесточенных территориальных споров между Португалией и Испанией, перешедших в кровопролитную войну с местным населением). Но против этого плана решительно выступил губернатор Асунсьона, понимавший, что подобное соединение двух территорий неизбежно приведет к утрате Испанией части своих владений в пользу Португалии. Поэтому Аквавива решил проблему иначе: в 1607 г. он создал на территории испанских колоний новую провинцию Парагвай, простиравшуюся от берегов Тихого океана на западе до побережья Атлантического океана на востоке и от реки Паранапанема на севере до мыса Горн на юге. Настоятелем провинции был назначен Диего де Торрес, который сразу зарекомендовал себя решительным защитником индейцев. Так, в 1608 г. он отменил энкомьенду на территориях, принадлежащих ордену иезуитов; индейцы, оставшиеся работать на этих землях, получали плату за свой труд. Между тем в Мадриде иезуиты указали испанскому престолу на незаконное поведение крупных энкомендерос Ла-Платы и Параны по отношению индейцам и потребовали восстановить справедливость. Испанское правительство отреагировало весьма неожиданным образом: оно не только даровало Д. де Торресу широкие полномочия для образования следственной комиссии по рассмотрению положения индейцев, но и в 1608-1609 гг. решило передать Обществу Иисуса духовную и светскую власть над индейцами Ла-Платы, предложив иезуитам группировать местное население в миссионерские округа. При этом испанцам под угрозой сурового наказания строго запрещалось самовольно проникать на территории миссий{13}. Однако для того чтобы подобное решение не нанесло вред владениям колонистов, эти миссии было разрешено учреждать не в так называемых tierra di paz (исп. - «мирные земли»), уже принадлежащих колонистам, а в еще не завоеванных и не колонизированных tierra di guerra (исп. - «земли войны»). С этого момента conquista spiritual фактически признается единственным легальным средством завоевания индейцев, и эта задача целиком и полностью поручается духовным орденам. Теперь иезуиты, равно как и другие монашеские конгрегации, направляются испанским правительством во все стороны своих южноамериканских владений в качестве первых носителей христианской веры и цивилизации с целью расширить границы подвластных территорий. Если посмотреть на карту колониальных владений Испании того времени, то можно увидеть, как на границах территорий, принадлежащих испанской короне, появилась целая линия миссий, которые не только отражают набеги вражеских племен, но и постепенно начинают культурную ассимиляцию индейцев. «Государство» иезуитов в Парагвае Следует сразу оговориться, что термин «государство» или «республика», применяющийся в исследовательской литературе по отношению к 30 редукциям, основанным иезуитами в Парагвае, весьма условен. Поселения миссий не являлись ни самостоятельным государственным образованием, ни даже автономной административной единицей на территории испанских колоний в Латинской Америке. Редукции подчинялись светским властям вице-королевства Перу, а именно губернатору Асунсьона. Миссии пользовались рядом привилегий и обладали довольно широкой внутренней автономией, да и располагались они по большей части в глубине почти непроходимых тропических лесов и были настолько удалены от основных населенных пунктов, что представители светской власти до поры до времени просто не могли добраться туда. Впрочем, это и не было нужно, ведь из миссий в королевскую казну исправно поступали налоги, которые обязано было выплачивать коренное население колоний, сами индейцы считались верными подданными испанской короны, а до всего остального колониальному правительству не было дела. И духовная, и светская власть в редукциях, таким образом, была сосредоточена в руках отцов-иезуитов. 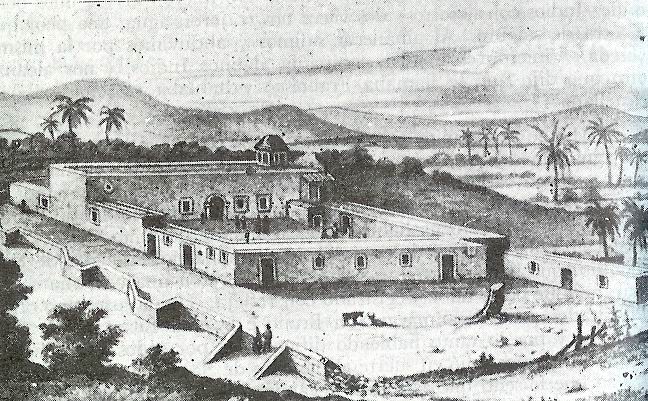 Нуэстра-Сеньора-де-Лорето на гравюре XVIII в. Редукция Нуэстра Сеньора де Лорето (Nuestra Senora de Loreto), положившая начало целой цепи индейских поселений, была основана в марте 1610 г. иезуитами Хосе Катальдино и Симоном Масетой. Первыми индейцами, поселившимися там, были те, среди которых еще в самом конце XVI в. проповедовали Ортега и Фильдс и которые уже на протяжении десяти лет оставались без духовных наставников. Более 200 семей гуарани изъявили желание жить в редукции: индейцы были рады перейти под защиту миссий, спасаясь от испанцев, которые эксплуатировали их, и от португальцев, обращавших их в рабство. Индейцев, желавших поселиться в Лорето, было так много, что редукция уже не могла вместить их; поэтому в 1611 г. было основано еще одно поселение - Сан Игнасио (San Ignacio), которое находилось немного выше Лорето по течению реки Паранапанема. К 1620 г. редукций было уже 13, а их население, состоявшее исключительно из индейцев, насчитывало около 100 тыс. человек. К 1630 г. иезуиты владели уже четырьмя миссионерскими округами (Гуайра, правый берег среднего течении реки Параны, страна «между двумя водами» и левый берег реки Уругвай) с 27 редукциями, расположенными в них. Успешная деятельность миссионеров не раз омрачалась трагическими событиями. Так, в 1618 г. в Гуайре разразилась эпидемия чумы - болезнь, принесенная на американский континент европейцами, унесшая много жизней индейцев. Напуганные, они бежали из редукций обратно в леса, надеясь спастись там от заражения. Многие возвращались к своим племенам, и родственники убеждали неофитов отречься от новой веры. Колдуны и шаманы только подливали масла в огонь, обвиняя миссионеров и их учение во всех бедах, обрушившихся на гуарани. Когда эпидемия чумы прошла, иезуиты, сопровождаемые теми индейцами, которые мужественно остались в редукциях, отправились на поиски потерянных овец своей духовной паствы. Многих удалось найти и вернуть в постоянные поселения. Надо сказать, что в первые годы существования редукций крещеные индейцы часто обращались к своим старым верованиям и колдовству. Это происходило под влиянием шаманов, традиционно обладавших высоким авторитетом среди индейцев, поэтому иезуиты делали все возможное, чтобы не допустить их в редукции. Однако колдуны, не желавшие терять своего духовного влияния, все-таки проникали туда. Например, как-то раз в одном из поселений появился колдун с двумя помощниками и объявил себя богом в трех ипостасях. Роль «ипостасей» исполняли люди, сопровождавшие его. Весьма интересно отметить, как необычно отразились в сознании этого человека представления о христианском Боге, которые он решил совместить с традиционными верованиями, чтобы достичь большего влияния. Неизвестно, поняли ли это гуарани редукции, но шарлатан был с позором изгнан из поселения самими же индейцами{14}.  Florian Paucke: Índios e missionários atravessando um rio na região do Chaco В 1620 г. на редукции обрушилась новая напасть, с которой отцам-иезуитам не удавалось справиться на протяжении нескольких десятилетий: «паулисты», охотники за рабами из бразильского штата св. Павла, совершили свой первый набег на поселения миссий в самом процветающем округе - в Гуайре. Они атаковали редукцию Инкарнасьон, почти до основания разрушили ее и увели в рабство несколько сотен индейцев. С 1635 г. «паулисты» ежегодно нападали на редукции, находящиеся на левом берегу реки Уругвай (как уже упоминалось, на эту территорию претендовала Бразилия). Они разрушали и грабили поселения (хотя, по правде сказать, грабить там было нечего; денег и предметов роскоши в редукциях не существовало, поэтому «паулисты» без особого стыда цинично грабили церкви, унося с собой золотую церковную утварь) и угоняли в плен целые семьи гуарани. Эти поистине варварские набеги причиняли колоссальный вред как местному населению, так и самим иезуитам, поскольку те не только теряли свою паству физически, но и утрачивали духовное влияние над ней. Все чаще индейцы отрекались от христианства, возвращаясь к язычеству. Шаманы и колдуны настраивали индейцев против священников: миссионеры, говорили они, это обманщики, которые приходят к доверчивым индейцам под маской дружелюбия и набожности, а сами распространяют болезни прикосновением рук; индейцы должны бежать из их церквей и отречься от новой религии, иначе охотники за рабами нападут на их поселения и ни одна живая душа не спасется{15}. Подобные умонастроения породили новый языческий культ, вобравший в себя черты христианства, но являвшийся индейским по своей сути. Его основу составляло поклонение останкам умерших колдунов. Эти останки хранились в особых святилищах, за ними с трепетом ухаживали жрецы (как мужчины, так и женщины), которые, входя в состояние транса, «получали послания» от умерших шаманов. В иерархии божеств было место даже у иезуитов! Им отводилась роль мелких духов, почти не обладающих никакой силой. Колдуны, напротив, считались самыми могущественными и почитались как творцы земли и неба. Казалось, возврат к язычеству (причем в нетрадиционной для гуарани форме) был окончательным. На какое-то время индейцы стали просто неуправляемы. Однако новый культ не спасал гуарани от охотников за рабами. Иезуиты довольно быстро вернули себе духовную власть над индейцами. В начале 1630-х гг. миссионер Антонио Руис де Монтоя предпринял попытку увести гуарани с территорий, на которые посягали «паулисты». Было решено «передвинуть» редукции ниже по течению реки Параны. Тяжелейший поход продолжался около года: за Монтоей последовали 12 тыс. индейцев, но до редукций, располагавшихся на среднем течении реки Параны, дошли только 4 тыс. «Все остальные, - пишет миссионер-иезуит Николас дель Теко, - или погибли в пути, потерявшись в лесах, или умерли от изнеможения и голода»{16}. После такого плачевного опыта миссионеры ясно осознали, что единственный способ спастись от нападения «паулистов» - это военные действия. В 1638-1639 гг. орден получил от королевского правительства разрешение выдавать индейцам огнестрельное оружие и создать военную организацию. Армия иезуитских миссий состояла в основном из кавалерии. Несмотря на то что индейцы, когда увидели первых конкистадоров, испугались именно лошадей, гуарани быстро научились хорошо держаться в седле и не уступали в этом умении испанцам. Однако на полях сражений гуарани были настолько беспомощны без европейских офицеров, что не могли даже пойти в атаку, не нарушив строй. Ведь тактика, к которой привыкли поколения индейцев, была более простой: издавая воинственные боевые кличи, они обрушивались все вместе, не заботясь о сохранении боевой линии. Это вполне срабатывало, когда гуарани сражались с другими индейцами, но с «паулистами» дело обстояло куда сложнее. Охотники за рабами были хорошо обученными солдатами, поэтому их не могли смутить беспорядочно наступающие индейцы, пусть и превосходящие количеством, но вооруженные копьями, пращами и луками, тогда как у самих «паулистов» было в руках огнестрельное оружие. Итак, в конце 30-х гг. XVII в. у индейцев появилось огнестрельное оружие. Индейцев обучали владеть им, был разработан специальный курс тренировок: каждое воскресенье после общей вечерни проводились занятия по ведению как сухопутного, так и морского боев. Все это очень волновало испанских колонистов: они опасались, что индейцы, совсем недавно являвшиеся дикарями, могут выйти из повиновения иезуитов и направить оружие против них, а не то и попробовать отвоевать свою страну. Испанцы постоянно посылали протесты в Мадрид, однако разрешение владеть огнестрельным оружием, дарованное королем индейцам редукций, напротив, несколько раз обновлялось. Результатом длительных тренировок, требовавших больших усилий и от индейцев, и от их учителей, стала битва при Мбороре в марте 1641 г., в которой 4 тыс. гуарани одержали победу над 4 тыс. «паулистов» и еще 2700 их союзников-индейцев. Со стороны гуарани битву возглавляли отец Ромеро, касик Игнасио Абиару (они командовали флотом, состоявшим всего из 60 каноэ, тогда как у «паулистов» насчитывалось 300 лодок) и Доминго де Торрес, руководивший сухопутными силами. После победы при Мбороре индейцы смогли надолго обезопасить себя (а заодно и внутренние территории испанских колоний) от крупных нападений «паулистов». Небольшие стычки, происходившие на границах, неизменно оканчивались в пользу гуарани. Таким образом, как упоминалось выше, редукции, индейцы которых держали в руках огнестрельное оружие, стали своеобразным щитом для испанских владений в Латинской Америке, защищавшим их от вторжения португальцев. Внимание исследователей всегда привлекала экономическая сторона жизни редукций. В XIX в. среди ученых было распространено мнение, что редукции Парагвая представляли собой идеальные христианские коммунистические общины, в которых все считалось общим и служило равному благосостоянию всех членов общины. На самом деле все было практически наоборот. Дело в том, что у гуарани, находившихся на ранней стадии социального развития, не существовало понятия частной собственности. В этом просто не было необходимости, ведь гуарани вели полукочевой образ жизни, и окружавшие их леса и реки в достаточном количестве давали все необходимое для каждого члена общины. Не было смысла в том, чтобы «делить» лес или реку на «мое» и «чужое». Экономика оседлой жизни, напротив, так или иначе подразумевала владение землей, хотя бы в самой примитивной форме. Поэтому можно сделать вывод, что понятие частной собственности в жизнь индейцев привнесли иезуиты. Так, в 1618 г. Педро Оньяте, второй провинциальный настоятель Парагвая, писал, что индейцы, «будучи абсолютными варварами, не имеют в своем распоряжении ни дома, ни поля»{17}. Он приказал миссионерам проследить за тем, чтобы и то, и другое у гуарани появилось.  Florian Paucke: Colheita do mel, século XVIII Земельные участки индейцев в редукциях назывались «abambae», что обозначало (хотя перевод был сделан с трудом) «личное владение». Урожай, который индеец собирал со своего участка, полностью принадлежал ему, и он мог распоряжаться им как хотел. Но продать этот участок или дом индеец не мог (кстати говоря, по колониальным законам индейцы вообще не имели права владеть землей). Земля, находившаяся в общественном владении, назвалась «tupambae», что в переводе означало «владение Бога», и обрабатывалась коллективно. В марксистской исследовательской литературе часто можно встретить мнение, что доходы от этой земли шли в карман иезуитов, которые подвергали «несчастных» индейцев «жестокой эксплуатации». Это было не так. Гуарани действительно приходилось заставлять работать, поскольку этот народ в силу особенностей традиционного образа жизни не привык к нелегкой монотонной, а главное, непрерывной работе земледельца. Поэтому все индейцы, которые могли работать, включая и маленьких мальчиков (им, естественно, давалась работа по силам), обязаны были отработать всего два дня в неделю на общественной земле. Урожай, который собирали с tupambae, помещали в специальные хранилища. С его помощью обеспечивалась жизнь тех, кто по каким-либо причинам не мог прокормить себя сам: мужчин, потерявших трудоспособность, вдов, сирот. Часть этого урожая шла на семена для следующего года, часть оставалась в качестве запаса на случай голода и для обмена на европейские товары. Какую-то часть урожая продавали, чтобы выплатить налоги испанской короне. Сами иезуиты получали от tupambae не больше, чем любой из индейцев. Поголовья крупного рогатого скота, лошади, овцы, пастбища и леса - все это также считалось общественной собственностью. К сожалению, было совершенно бесполезно давать индейцам в частную собственность рабочий или молочный скот: гуарани, ранее никогда не использовавшие животных для обработки земли, предпочитали съедать быков, вместо того чтобы пахать на них, или коров, вместо того чтобы доить их и обеспечивать семью молоком{18}. Подобная система землепользования, однако, могла существовать лишь в том случае, если число индейцев в редукции было более или менее стабильным. Когда редукция становилась перенаселенной, часть индейцев, ведомая двумя священниками, переходила на другое место, как правило, недалеко от прежнего. Обычно в редукциях в зависимости от их размера проживали 3500-8000 индейцев. У европейцев, изредка попадавших в редукции (это могли быть визитаторы или представители светских властей), складывалось впечатление, что редукции очень богаты: величественные церкви, каменные дома индейцев, мощеные улицы - все это выглядело просто великолепно по сравнению со столицей Асунсьоном. Редукции были построены по строгому греко-римскому плану: улицы пересекались под прямым углом, в центре поселения располагалась главная площадь, на которой стоял собор. К собору с одной стороны примыкало кладбище, с другой - дом священников и здание Городского совета. За кладбищем размещался дом для вдов и сирот, который существовал в каждой редукции; за зданием Совета - помещение школы и хранилища. За собором находился сад, принадлежащий священникам. Дома индейцев, как уже было сказано, располагались по строгой планировке. Сделанные из сырого кирпича, с гладкими стенами и крышами, покрытыми соломой, без окон и с очень узкой дверью, которая служила единственным источником света, эти дома не отличались ни красотой, ни удобством. Но не стоит забывать, что редукции почти все время находились как бы на осадном положении из-за постоянных набегов бандейрантов, поэтому подобные условия существования были в какой-то степени оправданы. Только в начале XVIII в. кирпич был заменен камнем, а солома - черепицей. По сравнению с домами индейцев дома священников казались дворцами; но на самом деле миссионеры жили скромнее, чем простые крестьяне в Европе. Это доказывают описи имущества иезуитов редукции Сан Игнасио Мини, сделанные после их изгнания: восемь матрасов, девять кроватей и подушек, 12 подсвечников, семь столов, семь книжных полок, 20 стульев и трое часов - вот из чего состояло «несметное богатство» иезуитов, за которое их так яростно критиковали. В редукциях были маленькие фабрики, и это в стране, где на тот момент вообще не существовало промышленности. Те, кто приезжали в редукции, наблюдали за работой хорошо обученных и умелых плотников, каменщиков, скульпторов, ткачих, мастеров, делающих музыкальные инструменты, граверов, копиистов, оружейников и еще многих ремесленников и мастеров. Каждый индеец с детства учился какому-либо ремеслу, к которому имел склонность, и, став мастером, передавал свои навыки и умения другим. Однако при всем этом кажущемся богатстве редукции на самом деле вовсе не были богатыми, они, скорее, были процветающими. Доходы редукций лишь немного превосходили их расходы; деньги существовали только для того, чтобы выплачивать налоги казне. Самим индейцам деньги были не нужны: все, что было необходимо, предоставлялось общиной. После изгнания иезуитов из Латинской Америки (1767-1768 гг.), когда редукции перешли под управление светских властей, там не было найдено ни денег, ни драгоценных вещей. Более того, оказалось, что некоторые редукции даже задолжали Асунсьону. 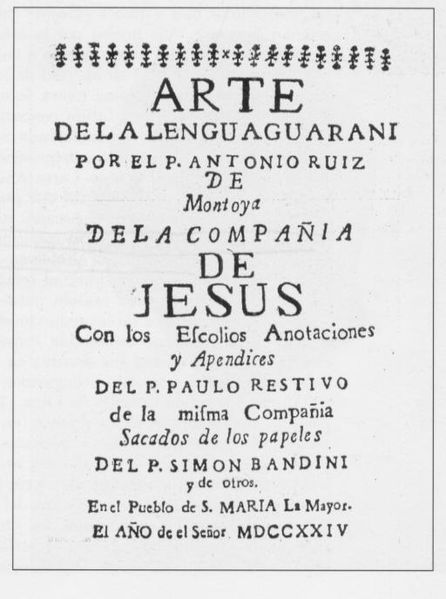 Antonio Ruiz de Montoya: Arte de la Lengua Guarani, edição de 1724 Иезуиты внимательно следили за образованием индейцев. С ранних лет дети гуарани учились читать и писать на родном языке; мальчики постепенно обучались мужским ремеслам, девочки - женским, преимущественно прядению и ткачеству. Особое внимание, разумеется, уделялось Закону Божьему. Надо отметить, что источники почти не дают описания религиозной стороны жизни редукций. Дело в том, что вся жизнь индейцев в редукциях была пронизана религиозностью настолько, что эта религиозность уже почти «растворялась» в обыденной жизни: утром служилась месса, на которой все индейцы были обязаны присутствовать (пропускавшие богослужения без уважительной причины подвергались наказанию). Потом, выстроившись в колонны, гуарани под пение гимнов отправлялись на общественные работы, также сопровождавшиеся музыкой; после работы все возвращались в церковь для общей вечерней молитвы. Воскресенье и праздничные дни были, конечно же, нерабочими. Вообще распорядок дня в редукциях заслуживает отдельного рассмотрения, особенно расписание священников. Антонио Сепп, служивший в редукции Япейю, писал, что для той работы, которую выполняет он один, в Европе потребовалось бы семь или восемь священников. Именно А. Сепп оставил нам сведения о распорядке дня священников, который, скорее всего, был почти одинаковым во всех редукциях. Священник вставал за час до рассвета, молился в церкви, потом слушал исповеди своей паствы. После этого он отправлялся учить детей катехизису и посещал больных. Поскольку почти каждый день кто-то из жителей редукции умирал, священник был обязан совершить похоронный обряд. После посещения больных миссионер отправлялся в школы, фабрики и другие заведения, где разговаривал с индейцами и наблюдал за учебным процессом. А. Сепп лично следил за своим маленьким оркестром и певцами. Ближе к 10 часам утра он посылал еду больным и только после этого, наконец, мог пообедать сам. После общей молитвы в середине дня у священника оставалось два часа свободного времени, которое он мог провести в своем саду или за книгой. Однако отдых миссионера часто прерывался: ведь он в любой момент мог понадобиться кому-либо из своей паствы. С двух до четырех священник опять посещал больных и хоронил умерших. В семь - после ужина и общей молитвы - он снова был свободен уже до раннего утра следующего дня. В одной редукции редко бывало больше двух священников, поэтому они были заняты с утра до вечера, почти без отдыха трудясь на благо вверенных им индейцев. Светскую власть в редукциях формально осуществляли сами индейцы (конечно, ничего не делалось без разрешения священников). Во главе редукции стоял коррегидор (corregidor) со своим заместителем (teniente); им помогали три надзирателя (alcaldes), четыре советника (regidores), префект полиции, эконом, секретарь и королевский знаменосец. Все они составляли Кабильдо (Cabildo) - городской совет. Завершая описание миссионерских поселений гуарани, скажем сказать несколько слов об искусстве редукций. Еще миссионеры Ортега, Фильдс и Салони заметили, что индейцы гуарани необычайно музыкальны, и их чувство тона развито сильнее, чем у других индейцев Латинской Америки. «Дайте мне оркестр, - сказал один из миссионеров, - и я мгновенно завоюю души этих индейцев для Христа»{19}. Священники зачастую не могли пробраться пешком сквозь дикие тропические леса: миссионеров было очень мало, да и индейцы относились к ним весьма недоверчиво. Но священники заметили, что, когда они, проплывая в своих лодках мимо временных поселений гуарани, напевали или наигрывали мелодии, индейцы подходили к берегам и слушали их. Это определило дальнейший подход миссионеров: отправляясь проповедовать, они неизменно брали собой музыкальные инструменты и играли настолько хорошо, насколько могли.  Página do Cancioneiro Chiligudú, com dezenove partituras que Bernardo de Havestadt incorporou ao II volume de sua obra sobre a língua dos índios mapuches do Chile. A letra das canções, publicadas em separado, é em mapuche e trata de conceitos básicos da fé cristã Что касается редукций, то индейские оркестры и хоры были настоящей гордостью отцов-иезуитов. В оркестрах европейские скрипки, контрабасы, флейты и гобои прекрасно звучали вместе с индейскими тростниковыми и глиняными дудочками, свистками и барабанами. В каждой церкви был орган, сложнейший инструмент, на котором талантливые гуарани научились прекрасно играть. К концу 20-х гг. XVII в. индейцы были настолько умелыми музыкантами и певцами, что даже дали в Буэнос-Айресе концерт, посвященный назначению Франсиско де Сеспедеса на пост губернатора. Испанские слушатели были в восторге{20}. Обычно в каждой редукции было 30-40 музыкантов. Музыка, как уже упоминалось, сопровождала индейцев на протяжении всего рабочего дня. Традиционные танцы гуарани иезуиты умело превратили в религиозные представления, мистерии и процессии, которые были особенно пышными на Страстной неделе и в праздник Тела Христова{21}. Закат деятельности Общества Иисуса в Латинской Америке В 1750 г. Испания и Португалия заключили договор, по которому португальской Бразилии отходили земли по левому берегу реки Уругвай с расположенными на них семью редукциями. На основании этого договора испанское правительство приказало иезуитам покинуть эти редукции вместе с 30 тыс. индейцев, населявшими их, и основать новые поселения на правом берегу Уругвая. Подобный приказ стал ясным свидетельство того, что иезуиты постепенно теряли свое влияние при испанском и португальском дворах. Результат этого приказа был вполне предсказуем: священники Параны и Уругвая выступили в защиту прав индейского населения и оказали сопротивление комиссии, прибывшей для того, чтобы урегулировать вопрос о границах. Но, связанные обетом послушания, священники вскоре все же были вынуждены покинуть свою паству. Когда в 1756 г. на спорную территорию были введены войска Испании и Португалии, гуарани выступили против них с оружием в руках, стремясь защитить землю, которую они считали своей родиной. Произошла битва, победу в которой одержали, разумеется, европейцы. Однако индейцы не сдавались и начали такую жестокую партизанскую войну, что к 1760 г. португальская армия оказалась измотана, деморализована и обескровлена и была вынуждена отступить. Поскольку обе державы были по ряду других причин недовольны решением вопроса о границах, то было решено аннулировать соглашение, и уругвайские миссии остались за Испанией. 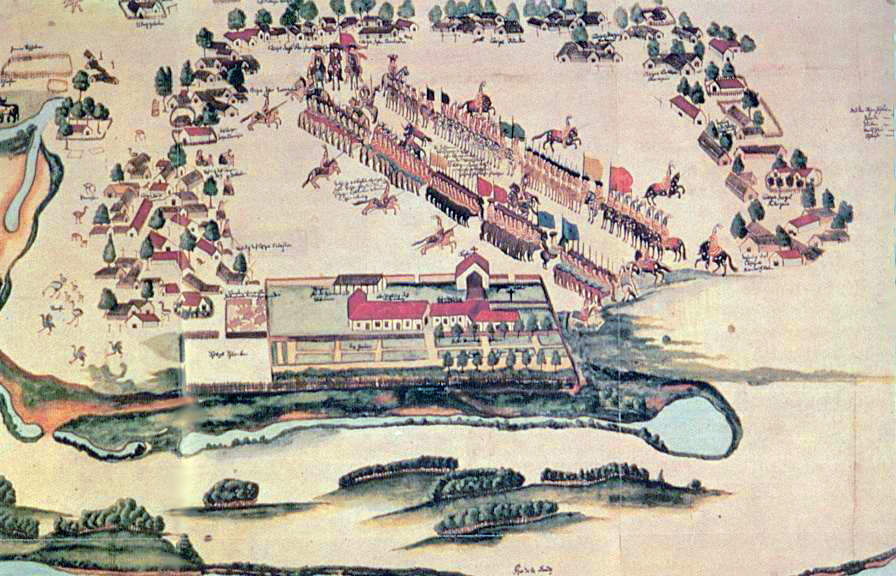 Florian Paucke: Uma redução guarani, mostrando ao centro da praça um exercício da cavalaria, século XVIII Между тем в Португалии министр Себастьян Хосе де Карвалло, более известный как маркиз де Помбаль, опубликовал «Краткое сообщение о республике иезуитов», работу, не основанную на фактах, но по времени совпавшую с антииезуитскими настроениями в Европе. Его кампания против иезуитов была поддержана целой лавиной книг и памфлетов, направленных европейским монархам и Папе Римскому. Иезуитов обвиняли в подстрекательствах к мятежам, в развязывании войн и даже в желании захватить всю Европу. Сам Помбаль, зацепившись за неприятное для колониальных властей разрешение индейцам редукций носить огнестрельное оружие, писал, что, вместо того чтобы наставлять индейцев в христианстве, иезуиты обучают их строить военные сооружения и стрелять из ружья. «Их несчастные семьи, - добавлял он, - живут в строжайшем повиновении и в более суровых условиях, чем негры, работающие на рудниках»{22}. Помбаля давно возмущало влияние иезуитов на португальский двор и правительство, и он решил избавиться от них. Это эму удалось: еще в 1756 г. он велел изгнать всех иезуитов, находившихся при дворе, а в 1759 г. по его приказу иезуиты были изгнаны из всех португальских владений, в том числе и из колоний в Латинской Америке. Вскоре примеру Помбаля последовал испанский король Карл III, обрушив на иезуитов гонения в Испании в 1767 г., а в 1768 г. велевший представителям Общества Иисуса покинуть все территории, принадлежащие испанской монархии. Мир, который мужественные и самоотверженные миссионеры строили на протяжении 150 лет, рухнул в одночасье. Редукции перешли под управление светских властей. Но долго поселения не просуществовали: иезуиты действительно создали новую прекрасную и процветающую цивилизацию, но она была искусственной, а потому - недолговечной. Индейцы стремись покинуть миссии и перебраться в более крупные города, такие как Асунсьон или Буэнос-Айрес. Редукции быстро опустели и пришли в упадок. Последующие войны окончательно разрушили архитектурные памятники, и только руины напоминают теперь о былом величии «государства» иезуитов в Парагвае. Однако не будем забывать, что благодаря миссионерской политике иезуитов, а именно длительной изоляции редукций, гуарани сохранили свою этническую идентичность, свой язык и культуру. Индейцы понимают это и до сих пор с теплотой и благодарностью отзываются о времени существования 30 иезуитских миссий в самом сердце Латинской Америки. Примечания 1. Цит. по: Caraman P. The lost paradise. The Jesuit Republic in South America. New York, 1973. 2. Термин «редукция», который будет часто использоваться в данной работе, является транслитерацией испанского слова «reduction» и, возможно, лучше всего переводится на русский язык как «община», «поселение». В свою очередь, «reduction» происходит от глагола «reducir», который в изучаемый период обозначал «собирать в поселение миссий». 3. McNaspy C. J., Blanch J. M. Lost cities of Paraguay. Chicago: Loyola University Press, 1982. 4. Caraman P. Op cit. P. 22. 5. Цит. по: Caraman P. Op. cit. P. 22. 6. Caraman P. Op. cit. P. 40. 7. Францисканцы (лат. Ordo Fratrum Minorum) - католический нищенствующий монашеский орден, основан св. Франциском Ассизским в 1208 г. с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма, любви к ближнему. В период Нового времени францисканцы активно занимались миссионерской и исследовательской деятельностью, работая в испанских владениях в Новом Свете и в странах Востока. 8. Окропление (лат. asperges) - начальный покаянный обряд католической мессы, во время которого священник окропляет прихожан святой водой и поется покаянный псалом «Помилуй меня, Боже.» (лат. “Miserere mei Deus...”). 9. Caraman P.Op. cit. P. 26. 10. Бемер Г. Иезуиты. СПб.: Полигон, 1999. С. 314. 11. Диоцез (лат. diocesis) - церковно-административная единица в Католической церкви, во главе которой стоит архиерей (епископ или архиепископ). Для русского читателя более привычным является аналогичное понятие епархия. 12. Визитатор (лат.) - духовное лицо, уполномоченное епископом или генеральным настоятелем ордена на производство визитации, то есть на инспекцию деятельности определенных лиц и учреждений. 13. Бемер Г. Указ. соч. С. 323. 14. Caraman P.Op. cit. F. 38. 15. Caraman P.Op. cit. P. 61. 16. Caraman P.Op. cit. P. 67. 17. Цит. по: Caraman P. Op. cit. P. 116. 18. Caraman P. Op. cit. P. 121. 19. Цит. по: Caraman P. Op. cit. P. 213. 20. Caraman P. Op. cit. P. 215. 21. Праздник Тела Христова (лат. Corpus Chiisti) - праздник в Католической церкви, посвященный особому почитанию Пресвятых Даров, то есть Тела и Крови Христа. 22. Цит. по: Caraman P.Op. cit. P. 274. Библиографический список Бемер Г. Иезуиты. СПб.: Полигон, 1999. Caraman P. The lost paradise. The Jesuit Republic in South America. New York, 1973. McNaspy C. J., Blanch J. M. Lost cities of Paraguay. Chicago: Loyola University Press, 1982. АНТРО 2012/2, С. 123-151. Апокалипсис сегодня 2013-12-26 09:43 Saygo Saygo: Апокалипсец и армагеддец на страницах "Книги чудес", появившейся в середине XVI века в славном граде Аугсбурге. Аугсбургская рукопись, обложка которой не сохранилась (и поэтому название ее условно), представляет собой собрание примерно двухсот рисунков, очень искусно выполненных гуашью и акварелью, с краткими пояснениями под ними: о каком именно необыкновенном событии, описанном здесь, идет речь, и предвестием чего - какой именно катастрофы, эпидемии, войны - оно было. Сохранилось 167 оригинальных страниц и 23 копии, которыми заменили оригинальные листы в XIX веке, когда "Книгу чудес" заново переплетали. Кстати, в процессе подготовки публикации издательству Taschen удалось найти четыре оригинальных листа, вырванных из нее - их тоже включили в публикацию. Даже если смотреть на эти красочные "страшилки" глазами современного человека, они производят сильное впечатление, особенно в сочетании с суховатыми, лаконичными, чисто информативными подписями под картинками. Они приведены на языке оригинала, современном немецком, а также на английском и французском языках. Например, такая подпись: "В 1552 году от Рождества Христова, 17 мая, над Добрехтом в Голландии разразился такой ужасный ураган с градом, что люди подумали, будто настал конец света. Это длилось около получаса. Многие градины были весом в фунт и восемь лотов (около 600 граммов - прим. ред.). От упавших на землю шла чудовищная вонь".            Тонхак 2013-12-26 10:57 Чжан Гэда Чжан Гэда: Совершенно неожиданно нашелся еще один духовный лидер раннего тонхака - Со Чанъок (徐璋玉, ?-1900). Он был учеником Чхве Джеу и, сразу после казни учителя, возглавил вместе с Чхе Сихёном две разные ветви секты. Чхве Сихён имел религиозное имя Попхон, поэтому возглавляемые им общины именовались поппхо, а те, кого возглавил Со Чанъок, именовались по его фамилии сопхо. Это сообщает Мэчхон в "Оха кимун". Он же пишет, что сопхо по договоренности лидеров были боевым крылом - они должны были начать восстание, и Чон Бонджун с соратниками (Ким Гэнам, Сон Хваджун и т.д.) были членами сопхо. Это сильно расходится со словами самого Чон Бонджуна на допросе, что все деления в тонхак идут по географическому принципу - южные секты располагаются в приграничных районах провинции Чолла, а северные - в приграничных районах провинции Чхунчхон. Вот так - истории с тонхак всего 150 с небольшим лет, а разобраться в том, кто, что, где и как однозначно уже не получается. Юлиан Отступник 2013-12-26 11:02 Saygo Saygo: В. А. Дмитриев ЮЛИАН ОТСТУПНИК: ЧЕЛОВЕК И ИМПЕРАТОР  Исторические деятели, подобные Юлиану Отступнику, не могут не вызывать по меньшей мере интереса у любого, кто хотя бы немного соприкасался с историей поздней Римской империи. Не каждому историческому деятелю оказывалось под силу преодолеть инерцию происходящих вокруг событий и попытаться изменить казалось бы неумолимый ход истории. Именно таким человеком и был император Юлиан Отступник. Как отмечал Дж. Негри — автор одной из наиболее глубоких работ, посвященных биографии Юлиана, — "в период упадка империи не было фигуры более оригинальной, более интересной и привлекательной, чем император Юлиан" [1]. Подобно многим выдающимся историческим деятелям, Юлиан неоднозначно оценивался современниками и авторами последующих эпох. Приверженцы староримских традиций и ценностей превозносили Юлиана, сравнивая его с героями древности. Христианские же историки ярко выразили свое отношение к Юлиану тем, что дали ему прозвище "Отступник" (лат. Apostata). По причине подобной полярности суждений о личности Юлиана в письменных источниках [2] довольно затруднительно воссоздать его более или менее целостный образ. И тем не менее попытаемся это сделать. Нашим главным источником при рассмотрении биографии Юлиана является сочинение Аммиана Марцеллина "Деяния" ("Res gestae") [3], состоящее из тридцать одной книги, из которых до нашего времени дошло лишь восемнадцать последних — с XIV по XXXI, описывающие события с 353 по 378 гг. Аммиан сам был участником описываемых событий, и поэтому его сведения имеют для исследователей неоценимое значение. Ряд сведений о жизни и деятельности Юлиана можно найти в речах и письмах его друга и единомышленника — антиохийского ритора Либания [4]. Кроме того, сам Юлиан оставил достаточно обширное литературное наследие; особенно ценны письма Юлиана, отражающие основные события в его жизни и отношение к ним автора [5]. Более сжатые и отрывочные сведения о жизни Юлиана содержатся в сочинении целого ряда других позднеантичных и раннесредневековых греческих и латинских авторов (Секста Аврелия Виктора, Евтропия, Руфа Феста, Сократа Схоластика, Созомена, Феодорита, Филосторгия, Григория Богослова), а также в "Истории Армении" Моисея Хоренского [6]. Детство и юность Итак, император Цезарь Флавий Клавдий Юлиан Август — таково его полное имя — родился в Константинополе в 331 г. [7]. Его отцом был сводный брат императора Константина Великого, младший сын Констанция Хлора от второй жены, Феодоры, Юлий Констанций, погибший через несколько месяцев после смерти Константина Великого (видимо, в конце 337 г.), когда Юлиану едва исполнилось шесть лет. Его мать Базилина происходила, как пишет Аммиан Марцеллин, "из старинного знатного рода" (a maioribus nobili) [8] и умерла еще раньше отца, в 332 г. Таким образом, уже в раннем детстве будущий император, как и его брат, Галл, остался круглым сиротой. Оба ребенка чудом избежали смерти в период кровавой борьбы за власть между наследниками Константина Великого, последовавшей после его смерти в 337 г. Вероятно, Юлиан остался в живых благодаря своему юному возрасту, а Галла пощадили из-за того, что в тот момент он был серьезно болен [9]. Поскольку Юлиан был потомком Констанция Хлора и, соответственно, родственником императора Константина Великого, ему была предоставлена возможность получить достойное образование, которой он и воспользовался: сначала в Никомедии, обучаясь у епископа Евсевия, а затем — в Константинополе [10]. В возрасте семи лет Юлиан был передан на воспитание придворному евнуху Мардонию (судя по имени — персу), некогда занимавшемуся и воспитанием матери Юлиана, Базилины [11]. Считается, что именно Мардоний привил Юлиану любовь к греческой языческой культуре и, в особенности, — к творческому наследию Гомера и Платона. Здесь же, в Константинополе, Юлиан познакомился и с Либанием — крупнейшим позднеантичным языческим ритором и общественным деятелем, дружбу с которым он поддерживал всю свою жизнь. Юлиану было запрещено посещать занятия Либания, но он тайком читал его сочинения и таким образом заочно обучался греческому ораторскому искусству и приобщался к языческой культуре. Влияние греческих учителей и воспитателей на Юлиана было столь велико, что в последствии практически все свои сочинения император писал на греческом языке. Не менее сильным было воздействие, оказанное Либанием на религиозно-философские взгляды Юлиана. Именно это дало основание А.Н. Чанышеву утверждать, что "Либаний был вдохновителем Юлиана в его "отступничестве" [12]. Видимо, в тот же период времени Юлиан посещал и занятия грамматика Никокла из Спарты, а также христианского философа Гекебола [13]. Все было спокойно до тех пор, пока в 345 г. неожиданным распоряжением Констанция II Юлиан вместе с братом Галлом не был перевезен из столицы в загородную резиденцию императоров Мацелл близ Кесарии на территории Каппадокии [14]. Здесь оба брата были почти полностью изолированы от окружающего мира, в том числе — и от близких друзей. В таком положении Юлиан и Галл находились около шести лет, однако в 350 г. их судьбы вновь круто изменились: старший из братьев, Галл, был вызван императором в Сирмий (один из четырех столичных городов поздней Римской империи), возведен в ранг цезаря (наследника императорского престола) и назначен соправителем Констанция на востоке империи. Этот шаг императора был продиктован необходимостью одновременной борьбы с персами на восточных границах империи (в Верхней Месопотамии и Армении) и с узурпатором Магненцием, поднявшим в 350 г. мятеж и казнившим брата Констанция — Константа — в западной части империи. Таким образом, в 350 г. Юлиан вновь обрел долгожданную свободу и получил возможность продолжить свое образование. С этой целью он направился в восточные провинции империи, где находились крупнейшие научные центры того времени. В Малой Азии Юлиан посетил Пергам и Эфес, славившиеся во всем античном мире своими культурными и научными достижениями. Здесь будущий император посещал занятия философов-неоплатоников, в частности — Максима Эфесского, благодаря которому Юлиан, к тому времени уже являвшийся страстным поклонником объективно-идеалистической системы Платона, стал приверженцем мистического направления в неоплатонизме. Пребывание Юлиана в Малой Азии было вновь внезапно прервано в 354 г., когда по личному указанию императора Констанция был казнен его брат — цезарь Галл. Как считали современники, Галл тем самым поплатился за свой жестокий и заносчивый характер; однако, скорее всего, это был результат очередной дворцовой интриги, а также боязни Констанция II приобрести в лице Галла нового претендента на императорский трон. Под угрозой оказалась и жизнь самого Юлиана. Клеветники при дворе императора обвиняли его в преступных связях с казненным Галлом и самовольном оставлении отведенного ему для проживания поместья Мацелл. Несмотря на явную вздорность этих обвинений, Юлиану грозила гибель, и лишь заступничество жены Констанция Евсевии спасло его от смерти. По ее просьбе Юлиана помиловали и отправили в северо-итальянский город Комум (ныне — г. Комо) близ Медиолана (нынешнего Милана) [15]. После недолгого пребывания в Комуме Юлиану было дозволено выехать в Грецию для продолжения обучения различным наукам, к чему он всегда страстно стремился. Но спокойная жизнь Юлиана в Греции длилась лишь около четырех месяцев, и уже в октябре 355 г. он был вновь вызван Констанцием ко двору, в Медиолан. Путь к трону На этот раз причина, по которой император желал видеть своего двоюродного брата, была действительно значимой: в виду непрерывных вторжений варваров в галльские провинции империи Констанций остро нуждался в помощнике, способном обезопасить границу империи по Рейну. После недолгих размышлений Констанций в присутствии легионов объявил Юлиана своим соправителем, предоставив ему военное командование над гарнизонами, расквартированными в Галлии. Сам Юлиан воспринял это неожиданное повышение как первый шаг на пути к неминуемой гибели, ибо в его памяти еще были живы воспоминания о судьбе старшего брата, так же внезапно вознесенного на вершину власти, а затем павшего жертвой болезненной подозрительности Констанция и зависти придворных интриганов. Войско же встретило эту новость с ликованием, рассчитывая на активизацию военных действий против грабивших и разорявших Галлию алеманнов и франков. Произошло это судьбоносное для Юлиана событие 6 ноября 355 г. Еще через несколько дней состоялось бракосочетание Юлиана с сестрой Констанция Еленой, а 1 декабря он уже отправился в Виену (ныне — г. Вьен во Франции) — центр Виенской провинции на территории Южной Галлии. Летом 356 г. Юлиан открыл боевые действия против варваров, освободив захваченные ими приграничные территории и ряд важных городов, в том числе — Колонию Агриппину (нынешний Кёльн). Кроме того, цезарь попытался навести порядок и в управлении самой Галлией. Известно, что он существенно снизил налоги, взимавшиеся с населения галльских провинций, отменил налоговые льготы для местной знати, а также отказался от практики введения экстренных сборов на военные нужды [16].  Схема битвы под Аргенторатом Зиму 356/357 г. Юлиан провел в городе Сеноны (современный г. Санс во Франции). Здесь ему стало известно о новом вторжении германцев, и весна — лето 357 г. прошли в непрерывных столкновениях римлян с варварами. Однако окончательный исход кампании 357 г. в Галлии решился в конце лета. Под Аргенторатом (ныне — г. Страсбург) сошлись римская армия под руководством Юлиана и армия алеманнов во главе с царем Ходомарием. С обеих сторон в битве участвовало до 48 тысяч человек: 13 тысяч воинов сражалось в рядах римлян и около 35 тысяч насчитывало войско германцев. Несмотря на почти трехкратное превосходство варваров, римская армия под командованием Юлиана нанесла противнику сокрушительное поражение: только на поле битвы было найдено 6 тысяч тел алеманнов, и еще большее их количество унесли воды Рейна. Сам Ходомарий сдался в плен, и Юлиан великодушно пощадил своего неудачливого противника. У римлян же потери составили 247 человек [17]. В этом сражении наиболее ярко проявился полководческий талант Юлиана. Неслучайно битва при Аргенторате вошла практически во все труды по истории военного искусства периода поздней античности как яркий пример сражения между войском германцев и римской армией [18]. После этого Юлиан совершил два рейда за Рейн, вглубь вражеской территории, уничтожая на своем пути поселения франков и алеманнов вместе с их жителями. Это был один из тех редких случаев в истории поздней империи, когда римляне от пассивной обороны переходили к активным, упреждающим действиям [19]. В итоге племена франков, хамавов и алеманнов были вынуждены пойти на заключение с римлянами мирного договора. На границах Галлии временно воцарились мир и покой. Но это было лишь затишье перед бурей... Все началось с того, что через два с небольшим года, в 360 г., Юлиану пришлось подавлять вооруженное антиримское восстание в Британии, поднятое пиктами и скоттами. Серьезной опасности для Рима сами по себе эти события не представляли, но они стали прологом к разыгравшейся вскоре драме. Дело в том, что с конца 350-х гг. император Констанций непрерывно воевал на востоке с персами, и боевые действия развивались далеко не в пользу римлян: сасанидский шаханшах Шапур II Великий (309 — 379 гг.) захватил ряд важных римских опорных пунктов, в том числе — крепости Амиду (ныне — г. Диярбакыр в Турции) и Сингару (ныне — г. Синджар в Ираке) в Верхней Месопотамии. Для усиления своей армии Констанций II решил отозвать из Галлии те самые вспомогательные части, набранные из германцев, которые были направлены Юлианом в Британию. Это являлось нарушением договора, согласно которому варвары соглашались служить в римской армии при условии, что их "никогда не поведут за Альпы" [20]. Кроме того, посланец императора — нотарий Деценций — вел себя крайне самоуверенно и вызывающе: не вникнув в ситуацию и не дожидаясь завершения похода в Британию, он попытался силой заставить часть наиболее боеспособных отрядов Юлиана отбыть на восток, в Месопотамию. Подобные действия Деценция вызвали в галльских легионах открытый бунт, и помимо своей воли Юлиан был провозглашен армией Августом, т.е. императором [21]. Таким образом, в империи вновь, впервые после 350 г., появилось два Августа — Юлиан и Констанций II. Столкновение Юлиана с Констанцием стало неизбежным. Тем не менее Юлиан попытался решить дело миром и послал Констанцию письмо, в котором предлагал ряд компромиссных мер для сохранения мира и порядка в империи, обещая повиноваться так же, как это было ранее [22]. Констанций II с негодованием воспринял предложение новоявленного соперника; вооруженную борьбу с Юлианом тогда же, летом 360 г., ему помешала начать лишь все еще продолжавшаяся война с персами. Для упрочения своего положения Юлиану крайне важно было сохранить свой авторитет среди жителей Галлии, в большинстве своем — христиан. Поэтому он, будучи по своим убеждениям язычником и противником христианства, первое время был вынужден продолжать скрывать свои истинные взгляды и участвовать в христианских религиозных мероприятиях, в тайне совершая языческие обряды [23]. Все это время Юлиан обдумывал план своих действий в отношении Констанция. В конце концов, летом 361 г. он принимает решение не ждать нападения со стороны соперника, а самому нанести первый удар. Войско получило приказ ускоренным маршем двинуться из Галлии на восток, в направлении Паннонии. Своей стремительностью Юлиан обезоруживал противника, а население городов, лежавших на пути его армии, встречало молодого императора факельными шествиями и гирляндами из цветов [24]. Достигнув города Нэсс (ныне — г. Ниш в Сербии), Юлиан получил неожиданное известие о скоропостижной смерти Констанция II, уже возвращавшегося из Месопотамии, где боевые действия были временно прекращены. Так в тридцать лет Юлиан стал единовластным правителем империи. Впереди его ждал Константинополь. Быстро пройдя Фракию, 11 декабря 361 г. Юлиан вступил в восточную столицу империи, где был встречен при всеобщем ликовании [25]. На вершине власти Именно в годы единоличного правления наиболее полно проявились качества Юлиана как человека, полководца и государственного деятеля. Прежде всего был сокращен аппарат придворных брадобреев, поваров и другой прислуги, получавшей из казны крупные суммы в виде жалованья [26] . Затем было объявлено об открытии языческих храмов и разрешении открыто приносить жертвы римским богам [27]. В целом религиозная политика Юлиана не была столь радикальной в отношении христиан, как это принято считать, начиная с раннехристианской историографии. Юлиан не проводил кровавых гонений, как это было, например, при Валериане и Диоклетиане. Кроме того, антихристианские мероприятия нового императора касались лишь официальной, католической, церкви; еретики же, напротив, получили равные с ортодоксами права, возможность вернуться из ссылки и восстановить свои храмы и богослужение [28]. В числе антихристианских мер Юлиана следует отметить и эдикты о запрете христианам служить в войске, а также занимать должности руководителей провинций [29]. В результате этих указов пострадали даже представители высшей аристократии — например, будущие императоры Иовиан, Валентиниан I и Валент [30]. С христиан взимались и особые денежные сборы в случае их отказа приносить жертвы римским богам [31]. Здесь же следует отметить и написание самим Юлианом антихристианских сочинений. В одном из них, известном под названием "Цезари" [32], император жестко критикует своих предшественников на троне, являвшихся христианами.  Не только религиозной политикой, но и всем своим поведением Юлиан демонстрировал стремление к возрождению 252 старинных римских добродетелей, склонность к простоте в быту и общении. Так, во время одной из торжественных церемоний он шел пешком вместе с другими высокопоставленными лицами [33]; к прибывшему к нему из Азии другу и философу Максиму, одному из видных представителей неоплатонизма, император у всех на глазах быстро подбежал и лично сопроводил во дворец, где собрались высшие государственные чины [34]. Однажды, когда Юлиан превысил свои полномочия, то сам уплатил в качестве штрафа 10 фунтов золота [35]. Сократ Схоластик сообщает, что Юлиан был вторым после Юлия Цезаря правителем Римского государства, лично выступавшим в сенате со своими речами [36]. Находясь в Константинополе, Юлиан уделял важное внимание и обороне границ: ремонтировал укрепления, заботился о снабжении приграничных армий оружием, продовольствием, одеждой, жалованьем [37]. Решив первые, самые неотложные, задачи, Юлиан направился из Константинополя в Антиохию, ближе к восточным границам империи. По пути он продолжал проявлять заботу о благе подданных, предоставляя денежные суммы на восстановление городов и занимаясь разбирательством судебных тяжб [38]. В Антиохии Юлиан провел зиму 362/363 г. Именно здесь он издал свой знаменитый эдикт о запрете преподавать в школах христианским риторам и грамматикам [39]. Однако главным, чем занимался император в Антиохии и на что были направлены все его помыслы, являлась подготовка к походу против персов. Современник, очевидец и участник описываемых событий, римский историк Аммиан Марцеллин считал, что основным мотивом Юлиана была жажда мести и славы [40]. Стремясь вызвать благосклонное отношение со стороны богов к своему будущему мероприятию, император совершал небывалые по своему размаху жертвоприношения. Это вызывало непонимание и критику даже со стороны языческой интеллигенции. Масла в огонь подлил эдикт Юлиана о снижении цен на продукты питания — в результате этого шага продовольствие вообще исчезло с прилавков [41]. Все эти мероприятия Юлиана привели к резкому похолоданию в отношениях между ним и жителями Антиохии, что ярко проявилось в его язвительном памфлете "Антиохиец, или Враг бороды". В конце концов, отношения между императором и антиохийцами, такие теплые в начале, были окончательно испорчены. Примерно тогда же, к началу весны 363 г., было все готово к походу против персов. 5 марта Юлиан покинул Антиохию, гневно отвергая просьбы ее жителей о милости и обещая никогда больше не возвращаться в этот город. Как выяснилось в последствии, это обещание Юлиана оказалось пророческим. Так начался печально знаменитый персидский поход императора Юлиана... Последний поход В начале апреля 363 г. римская армия в количестве около 65 тысяч человек [42] пересекла границу с Персией и вторглась на ее территорию. Войско Юлиана продвигалось вдоль левого берега Евфрата, захватывая и разрушая встречавшиеся ему на пути персидские крепости. Подвергаясь на марше постоянным набегам персидской кавалерии, римляне дошли до столицы Персии — Ктесифона, под стенами которого персидское войско было разбито [43]. Однако для осады и взятия такой мощной крепости сил у римлян было все же недостаточно, и поэтому на военном совете было решено продвигаться дальше на юг, вглубь персидской территории [44]. Вскоре выяснилось, что вся местность вокруг была выжжена персами, и Юлиан был вынужден повернуть на север, в направлении римской области Кордуэны, лежавшей в верхнем течении Тигра. И здесь случилось непредвиденное — во время одной из атак персов на римское войско Юлиан бросился на помощь своим солдатам, не одев доспехов и имея при себе лишь щит; в этот момент брошенный кем-то кавалерийский дротик ударил его в незащищенный правый бок и пронзил печень [45]. Рана оказалась смертельной, и в ту же ночь Юлиан скончался. Как пишет очевидец всех этих событий Аммиан Марцеллин, свой смертный час император встретил спокойно и мужественно, беседуя с философами-неоплатониками, сопровождавшими его в этом походе, — Максимом и Приском — о высоких свойствах человеческого духа [46].  До сих пор историки не могут точно ответить на вопрос о том, с чьей стороны был пущен тот роковой дротик. Существуют две основные версии случившегося, появившиеся буквально сразу после смерти Юлиана. Согласно первой из них, император погиб от руки персидского воина (эту точку зрения высказывали Аммиан Марцеллин, лично присутствовавший при описываемых событиях, и Аврелий Виктор, современник Юлиана и один из его приближенных [47]). Версия о предательстве не так популярна среди историков, но и она имеет свое обоснование. Впервые она прозвучала у того же Аммиана Марцеллина, а затем — у Либания, Сократа Схоластика и некоторых других позднеантичных и раннесредневековых авторов [48]. Согласно ей, Юлиан стал жертвой воина-христианина, находившегося в римском войске и воспользовавшегося удобным случаем для устранения ненавистного императора-язычника. Так внезапно, в расцвете лет и сил, прервалась жизнь императора Юлиана Отступника. Его тело было перевезено в предместье малоазийского города Тарса и в сопровождении скромной процессии предано земле. В заключение мы считаем уместным привести слова известного российского и польского историка-антиковеда Ф.Ф. Зелинского: "Но не как Отступник должен жить Юлиан в памяти потомков. Он мог в своих мечтательных намерениях ошибаться, и наверняка ошибался; краткость его правления не позволяет сделать окончательное суждение об этой стороне его деятельности. Однако нужно признать, что со времени Траяна на троне Рима не было столь энергичного, честного и преданного своему тяжкому долгу владыки" [49]. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Negri G. Julian the Apostate. Vol. 1. L., 1905. P. 1. 2. Чрезвычайно красноречивым примером влияния мировоззрения современных Юлиану авторов на восприятие его личности могут служить следующие отрывки: 1). "Шея нетвердая, плечи движущиеся и выравнивающиеся, глаза беглые, наглые и свирепые; ноги — не стоящие твердо, но сгибающиеся, нос — выражающий дерзость и презрительность, черты лица смешные, смех громкий и неумеренный, „.речь медленная и прерывистая, вопросы беспорядочные и несвязные, ответы — ничем не лучше" (Григорий Богослов. Речь 5. // Григорий Богослов. Собрание творений. Т. 1. Сергиев Посад, 1994. С. 134). 2). "Среднего роста, волосы на голове очень гладкие, глаза очень приятные, полные огня и выдававшие тонкий ум, красиво искривленные брови, прямой нос, рот несколько крупноватый, „.толстый и крутой затылок, сильные и широкие плечи, от головы и до пяток сложение вполне пропорциональное, почему и был он силен и быстр в беге" (Аммиан Марцеллин. История. XXV. 4. 22). 3. Ammianus Marcellinus. Rerum gestarum libri qui supersunt. Vol. 1—2. Lipsiae, 1874 — 1875. Есть русский перевод: Аммиан Марцеллин. История. Вып. 1—3. Киев, 1906—1908. 4. Libanii opera. Vol. I — XII. Lipsiae, 1903 — 1924. Есть русский перевод речей Либания: Либаний. Речи. Т.1—2. Казань, 1914 — 1916. 5. Юлиан император. Письма. // Вестник древней истории. 1970. № 1-3. 6. Аврелий Виктор. О жизни и нравах римских императоров. // Вестник древней истории. 1964. № 1. С. 227 — 252; Евтропий. Краткая история от основания города. // Римские историки IV века. М., 1997. С. 5 — 76; Созомен Эрмий. Церковная история. СПб., 1851; Сократ Схоластик. Церковная история. СПб., 1850; Festi breviarium rerum gestarum populi Romani. Lipsiae, 1886; Феодорит. Церковная история. СПб., 1852; Филосторгий. Сокращение церковной истории. СПб., 1854; Григорий Богослов. Собрание творений. Т. 1—2. Сергиев Посад, 1994; Моисей Хоренский. История Армении. М., 1893. 7. Аммиан Марцеллин (XXV. 3. 23) сообщает, что в год смерти (363) Юлиану исполнялось тридцать два года. 8. Аммиан Марцеллин. История. XXV. 3. 23. 9. Сократ Схоластик. Церковная история. III. 1; Созомен. Церковная история. V. 2. 10. Аммиан Марцеллин. История. XXII. 9. 4; Borris E., von. Iulianus (Apostata). // Pauly's Real-Encyclopidie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Halbband 19. Stuttgart, 1917. S. 26. 11. Borris E., von. Iulianus (Apostata). // Pauly's Real-Encyclopidie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Halbband 19. Stuttgart, 1917. S. 27. 12. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. С. 423. 13. Сократ Схоластик. Церковная история. III. 1; Созомен. Церковная история. V. 2. 14. Аммиан Марцеллин. История. XXV. 2. 7. 15. Созомен. Церковная история. V. 2; Аммиан Марцеллин. История. XV. 2. 8. 16. Аммиан Марцеллин. История. XVI. 5. 14 — 15; XVIII. 3. 2. 17. Там же. XVI. 12. 63. 18. См. об этом: Разин Е.А. История военного искусства. Т. 1. Военное искусство рабовладельческого периода войны. М., 1955. С. 451 — 455. 19. Холмогоров В.И. Римская стратегия IV в. н.э. у Аммиана Марцеллина. // Вестник древней истории. 1939. № 3. С. 92; Stark F. Rome on the Euphrates. The story of a frontier. L., 1966. P. 340. 20. Аммиан Марцеллин. История. XVII. 4. 4. 21. Там же. ХХ. 4. 14. 22. Там же. XX. 8. 5 — 17; Аврелий Виктор. О жизни и нравах римских императоров. XLII. 16. Сообщение Сократа Схоластика о том, что Юлиан из-за своего высокомерия даже не пытался наладить связи с Констанцием (III. 1), скорее всего не соответствует действительности и порождено стремлением к очернительству личности Юлиана церковными историками. 23. Аммиан Марцеллин. История. XXI. 2. 4 — 5. 24. Там же. XXI. 10. 1. 25. Там же. XXII. 2. 4 - 5. 26. Там же. XXII. 4. 9 - 10. 27. Сократ Схоластик. Церковная история. III. 14, 18, 20. 28. Там же. III. 1, 11. 29. Феодорит. Церковная история. III. 8. 30. Сократ Схоластик. Церковная история. III. 13, 16. 31. Сократ Схоластик объясняет это желанием Юлиана пополнить казну перед началом войны с персами (III. 13). 32. Юлиан. Цезари. // Ранович А.Б. Античные критики христианства. М., 1935. 33. Аммиан Марцеллин. История. XXII. 7. 1. 34. Там же. XXII. 7. 3. 35. Там же. XXII. 7. 2. 36. Сократ Схоластик. Церковная история. III. 1. 37. Аммиан Марцеллин. История. XXII. 7. 7. 38. Там же. XXII. 9. 5, 8 - 11. 39. Там же. XXII. 10. 7; Феодорит. Церковная история. III. 8. 40. Аммиан Марцеллин. История. XXII. 12. 1 — 2. Эта же точка зрения господствовала во всей позднеримской историографии, считавшей восточный поход Юлиана лишь результатом его стремления к славе, подобной славе Александра Македонского (Аврелий Виктор. О жизни и нравах римских императоров. XLIII; Сократ Схоластик. Церковная история. III. 21). 41. Сократ Схоластик. Церковная история. III. 17; Аммиан Марцеллин. История. XXII. 14. 1 - 2. 42. По данным Зосимы, во главе с Юлианом в Персию вторглась 65- тысячная армия (Zosimus. Historia nova. III. 25), однако незадолго до этого еще один отряд во главе с полководцами Прокопием и Себастианом численностью около 18 тысяч человек (Zosimus. Historia nova. III. 12) был направлен в северо-восточном направлении для охраны границы в верхнем течении Тигра от возможного флангового удара со стороны персов. Согласно же Аммиану Марцеллину, с Прокопием и Себастианом ушло 30 тысяч воинов (Аммиан Марцеллин. История. XXIII. 3. 5). 43. Аммиан Марцеллин. История. XXIV. 6. 4 - 15. 44. Там же. XXIV. 7. 2. 45. Там же. XXV. 3. 1 - 7. 46. Там же. XXV. 3. 23. Предсмертное восклицание Юлиана, якобы адресованное Иисусу: "Ты победил, галилеянин!" (Феодорит. Церковная история. III. 25), - всего лишь легенда, так как ни кем из современных Юлиану авторов, в том числе - и Аммианом Марцеллином, очевидцем смерти императора, этот эпизод не зафиксирован. 47. Аммиан Марцеллин. История. XXV. 3. 6; Аврелий Виктор. О жизни и нравах римских императоров. XLIII. 3. 48. Аммиан Марцеллин. История. XXV. 6. 6; Либаний. Речь XVIII. 274—275; Сократ Схоластик. Церковная история. III. 21. Основной довод сторонников этой версии заключается в том, что после гибели Юлиана никто из персов не был награжден и вообще как-либо отмечен; следовательно, убийство императора — дело рук кого-то из римских, а не персидских воинов. 49. Зелинский Ф.Ф. Римская империя. СПб., 1999. C. 427. Дмитриев В. А. Юлиан Отступник: человек и император // Метаморфозы истории: Альманах. Вып. 3. Псков, 2003. С. 246—258. Далекий Серкланд 2013-12-26 11:36 Чжан Гэда Чжан Гэда: Цитата (Сергий @ Вчера, 20:52) Первый массовый поход в Грецию был при князе Владимире. А Снорри Стурлуссон был убит в 1241 г. Поэтому то, что ученик Сэмунда Мудрого мог что-то не знать, не делает автоматически викингов/варягов невежественными относительно тех мест, куда они ходили. Ну и как там насчет русов на Крите, в Испании и т.п.? Тонхак 2013-12-26 11:51 Чжан Гэда Чжан Гэда: Также интересное лицо - современник и Чхве Джеу, и Чхве Сихёна, и Сон Бёнхи - Пак Инхо (朴寅浩, 1853-1940). Он вступил в ряды тонхаков в 1883 г., с 1884 г. стал учеником Чхве Сихёна. Принадлежал, почему-то, к секте сопхо. Говорят, что он участвовал в восстании 1904 г. и воевал в провинции Чхунчхон. Впоследствии принимал участие в движении за независимость, в т.ч. в "Первомартовских событиях" (1919). Умер уже при японцах, в вполне осмысляемое время. Тонхак 2013-12-26 11:51 Чжан Гэда Чжан Гэда: Также интересное лицо - современник и Чхве Джеу, и Чхве Сихёна, и Сон Бёнхи - Пак Инхо (朴寅浩, 1853-1940). Он вступил в ряды тонхаков в 1883 г., с 1884 г. стал учеником Чхве Сихёна. Принадлежал, почему-то, к секте сопхо. Говорят, что он участвовал в восстании 1894 г. и воевал в провинции Чхунчхон. Впоследствии принимал участие в движении за независимость, в т.ч. в "Первомартовских событиях" (1919). Умер уже при японцах, в вполне осмысляемое время. Тонхак 2013-12-26 11:53 Чжан Гэда Чжан Гэда: Также указываются иные годы рождения Пак Инхо - 1854 и 1855. Как говорится, это еще вполне легендарные, если не мифические времена Ли де Форест 2013-12-26 13:26 Сергий Сергий: Гении прокладывают дороги в науках, а люди, обладающие умом и вкусом, разравнивают и украшают их. Улучшение дорог следует рекомендовать, для того чтобы лучше переходить с одной стороны на другую. Г. К. Лихтенберг (1742–1799) Какой нации не хотелось бы назвать одного из своих сыновей изобретателем радио и числить приоритет великого открытия за своей родиной? Вот почему уже столетие не утихают споры среди историков науки. Приводятся убедительнейшие доводы и мнения, в которых фигурирует не так уж много имен: Максвелл (Англия), Герц (Германия), Бранли (Франция), Попов (Россия), Маркони (Италия). Среди этой плеяды великих умов, каждый из которых заслуживает чести быть включенным в «жизнеописание» нового средства связи, можно встретить и других ученых, «рангом пониже». Но даже среди них американский инженер Ли де Форест кажется фигурой, на первый взгляд, не совсем подходящей для роли основателя радио. Ведь к исследованиям в области радиотелеграфии он приступил, уже после того как первые сигналы были переданы через Атлантику, а искровой телеграф, как тогда называли радио, достаточно широко использовался на практике. Но почему же на родине инженера-ученого, в США, его имя произносят в сочетании со словами «отец радио» и даже «дедушка телевидения»? Ведь для этого должны быть веские основания. И они есть. Радиотелефон – это актуально Конец ХIХ в. был ознаменован событием, которому вначале придали мало значения. Ассистенты А. С. Попова – П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий обнаружили с нынешней точки зрения «самоочевидную» вещь. Пытаясь найти неисправность в радиоприемнике «прозвонкой» электрических цепей с помощью обыкновенной телефонной трубки, они отчетливо услышали радиосигналы азбуки Морзе ближайшей радиостанции. Во-первых, это означало, что с помощью радиоволн можно передавать звуковые сигналы. Во-вторых, появилась возможность принимать на слух маломощный сигнал, на который не реагировало реле приемника – непременный элемент первых конструкций. 26 июля 1899 г. А. С. Попов получает российскую привилегию и патенты в Англии и Франции на «Телефонный приемник депеш, посылаемых с помощью электромагнитных волн по системе Морзе» [2]. Испытания новой системы связи было решено провести на действующей эскадре Черноморского флота. Во время летней кампании 1901 г. в районе Новороссийска дальность передач временами достигала 80 миль (около 150 км). Хотя зона уверенного приема была чуть меньше, но вывод, что радиоволны воспринимаются и за линией горизонта, был однозначен [3]. Здесь уместно привести классический пример «благоглупости», когда бюрократия стоит на пути развития прогресса. «Командование Черноморского флота, – сообщил Рыбкин, – запретило использование радиотелефонов на флоте, ссылаясь на то, что телеграфная лента является документом, в то время как доверять радисту, принимавшему на сл потребовали подтверждать гербовой печатью. А время шло, впереди были трагедии Цусимы и «Титаника», однако никаких стимулов для проведения исследовательских работ в области передачи человеческой речи по радио не было. В США в тот период такие работы уже начались. Их результаты показали, что искровые передатчики для этой цели не годятся и частота несущей волны должна составлять не менее 10 тыс. периодов в секунду. Вопросами радиотелефонии занялся инженер Р. Фесенден, создавший высокочастотные электромашинные генераторы (альтернаторы). С 1906 г. с их помощью и были проведены первые радиотелефонные переговоры на побережье Атлантики. Кстати, их темой была стоимость рыбы на Бостонском рынке. Судоводители в США отказались изучать правила работы на телеграфном ключе, поэтому было решено иметь радистов только на пассажирских судах (другие суда оборудовались только радиотелефоном). «Аудион» – так названо изобретение Ли де Форест появляется на арене работ по искровому телеграфу в 1900 г. Сменив несколько лабораторий пионеров нового вида связи, в 1902 г. он организует собственную «Американскую компанию беспроволочного телеграфа». Из электротехники ему было известно, что при облучении воздуха пламенем горящей свечи он становится проводимым. То же происходило при нагревании любого разреженного газа. Уверенный, что рано или поздно среди светящихся под действием электрического тока газов может быть найден хороший детектор для волн Герца, Ли де Форест приступает к экспериментам. Уже в 1903 г. он произвел очень удачный и перспективный опыт. Две платиновые обкладки воздушного конденсатора «лизало» пламя горелки, а на плазму внутри его действовало поле электромагнитной катушки, включенной между антенной и землей (рис. 1). С помощью этого детектора Ли де Форест принял сигналы с судна, стоящего в Нью-Йоркской гавани. Первый успех окрылил изобретателя. Но применить такое устройство на практике не представлялось возможным. «Было очевидно, что для судовой радиостанции приспособление с газовым пламенем неприемлемо, – записал изобретатель, – поэтому я стал искать способ нагревать газ непосредственно электрическим током». Проще всего для этой цели было использовать обыкновенную эдисоновскую электролампочку, введя туда платиновые пластинки электродов и обернув частью приемной катушки стеклянный баллон лампы. Впоследствии один из платиновых электродов был удален, а вместо него была применена раскаленная нить лампы (рис. 2). Радиоприемник с таким детектором работал не хуже других аналогичных приборов, но и не лучше. Проводя многочисленные опыты, Ли де Форест однажды обернул стеклянный баллон лампы металлической фольгой, соединенной с антенной. Приемник стал более чувствительным. «В тот момент, – вспоминает ученый, – я понял, что эффективность лампы может быть увеличена, если третий электрод поместить внутрь». Что экспериментатор и поспешил сделать. Качество приема возросло. Дальнейшие опыты приводят изобретателя к мысли, что это эффективным, если поместить его между нитью накаливания и токоприемной пластиной. «Очевидно, – догадывается Ли де Форест, – что третий электрод не должен быть сплошной пластиной». Начались поиски материалов, форм и размеров электрода, а также места его расположения между двумя выводами лампочки. Наиболее удачной оказалась конструкция, в которой роль одного электрода выполняла раскаленная нить накала лампочки, помещенной в другой электрод в виде цилиндра. Между ними и располагался третий электрод, выполненный в виде проволочной спирали (рис. 3). Свое детище изобретатель назвал «аудионом» (от латинского «аудио» – слышать и греческого «ион» – идущий). Качество работы устройства определялось по силе звучания принимаемого сигнала на слух, и она превосходила все применявшиеся до этого приборы. Позже с легкой руки английского электротехника Вильяма Икклза лампы с тремя электродами стали называть триодами. Поиски истины и открытие Флотские радисты (а именно на флоте применялось новое средство связи), стремясь увеличить чувствительность аудионов, разогревали нить накала до недопустимых пределов, и они перегорали. Специалисты военно-морского флота, не разобравшись в проблеме, дали распоряжение «не приобретать аудионы, а пользоваться старыми детекторами». Ученые не находили ничего нового в конструкции Ли де Фореста. Вот что писал изобретатель диода Флеминг: «В октябре 1906 г. д-р Форест описал прибор, названный им аудионом, который является простым повторением моего, описанного восемнадцатью месяцами раньше. Введенное изменение не дает существенного различия в действиях прибора как детектора» [6]. Написано это в 1907 г., но даже в 1908-м француз К. Тиссо подтверждает приоритет Флеминга. Интересен тот факт, что оба изобретателя оригинальных электронных приборов, принявших электрон как реальность, подходили к определению приоритета с разных позиций. Флеминг считал приборы электронными, а Ли де Форест – ионными. Однако ничего удивительного в этом нет. Существовавшие в то время вакуумные насосы, предназначавшиеся для производства электрических лампочек накаливания, были настолько несовершенными, что это позволяло трактовать процессы, происходящие в аудионе, двояко. Ли де Форест считал, что его прибор работает по принципу ионизации глубоко разреженного газа. Только изобретение диффузионных вакуумных насосов и многолетние исследования позволили досконально изучить возможности радиолампы с дополнительным электродом и убедиться в электронном характере его внутренних процессов. Поистине революционной стала способность аудиона усиливать поступающий на него сигнал. Радиоприемники теперь могли воспринимать сигналы удаленных радиостанций или очень слабые. Мощности передатчиков могли быть уменьшены, что способствовало более широкому распространению радиотелефона. Однако развитие систем передачи человеческой речи не ставило своей задачей внедрение радиовещания, информации или музыкальных перике нужна была радиотелефония для деловой и выгодной двусторонней связи, но случилось непредвиденное... Всем надоела назойливая радио- и телереклама. Но ради исторической справедливости нужно признать, что радиореклама появилась раньше радиовещания. И самое непосредственное отношение к ней имеет не кто иной, как изобретатель аудиона. Вот что писал сам Ли де Форест: «В 1909 г. я производил радиотелефоны для США. Каждый комплект был испытан с помощью записей фонографа. К моему удивлению, многие радиолюбители и профессиональные операторы наслаждались этими контрольными передачами. Естественно, мне пришла идея относительно радиовещания. Привлекательная музыка и интересные программы могли передаваться в эфир, создавая спрос на беспроводное оборудование». В целях рекламы были организованы первые трансляции в прямом эфире из Нью-Йоркской «Метрополитен опера», а в ноябре 1916 г. была воплощена идея пере- дачи процедуры подсчета голосов во время президентских выборов. Именно она резко повысила интерес к широковещательным передачам по радио. Впервые в мире регулярное радиовещание началось в США из города Питсбурга с 1921 г. Первая радиореклама, в которой расписывались достоинства и низкая стоимость квартир в высотках Лонг-Айленда, была передана в 1922 г. из Нью-Йорка. Однако к ней Ли де Форест не имел никакого отношения. Еще одно открытие Успешно внедрив свой аудион в радиоприемник, Ли де Форест не мог пройти мимо идеи использовать его в радиопередатчике. Дело в том, что генерирование радиоволн сопряжено с устройствами, осуществляющими колебательные процессы. Таких излучателей колебаний в природе множество. Это и звучащий колокол, и голосовые связки, и качающаяся под потолком люстра, и маятник настенных часов. В электричестве можно создать источник колебаний, объединив в цепь заряженный конденсатор и индуктивность, образовав так называемый колебательный контур. Все природные колебательные системы выдают затухающие колебания. Струна через какое-то время перестает звучать, морские волны успокаиваются. Колебания в контурах тоже затухают. Для высококачественных радиопередач требуются колебания незатухающие. А это непросто сделать. Для длинноволнового диапазона можно создать машинный генератор высокочастотных колебаний. А как решить вопрос с колебательным контуром, обеспечивающим колебания практически любой частоты? Вот, например, в настенных часах для создания незатухающих колебаний маятника в течение нескольких суток были встроены специальные механизмы, которые регулярно подталкивают маятник в строго определенный момент по фазе его движения. Энергия для этого берется у поднятых гирь или заведенной пружины. Устройство называется анкерным механизмом. А как быть с колебательным контуром? Ли де Форест включает колебательный контур в цепь сетки своего аудиона, и по электрическим цепям усиленный сигнал с колебательного контура вновь попадает на этот же контур, «подталкивая» в нужный момент колебания, чтобы амплитуда иткрытие в электротехнике было названо положительной обратной связью и ныне применяется в тысячах разных устройств. Патент на эту систему Ли де Форест получил в 1915 г. Теперь никакого труда не составляло получать электрические колебания нужных частот. Правда, первые ламповые генераторы сначала не могли обеспечить потребных для передатчиков мощностей. Начнется жесточайшая конкуренция между альтернаторами и ламповыми генераторами. В конце концов альтернаторы исчезнут из употребления, а электронная лампа займет подобающее ей место. Но изобретатель аудиона был бы не американцем, если бы не нашел практического применения своему устройству не только на радио. Он создает первый электронный музыкальный инструмент. Сконструировав на аудионах электрический генератор звуковых частот по одному триоду на каждую октаву и усилив сигналы, он подает их в громкоговорители, расположенные по периметру комнаты. Так попутно решаются вопросы объемного звука. Но, главное, изменяя настройку колебательных контуров, Ли де Форесту удалось получить чарующие, непривычные для человеческого слуха звуки. Свой инструмент Ли де Форест назвал «аудион-пиано». При этом были высказаны пророческие слова: «Я надеюсь, что с помощью этой маленькой электронной лампы смогу сделать инструмент достаточно совершенный, чтобы музыканты могли реализовывать свои самые богатые музыкальные фантазии». «Великий немой» заговорил Кинематограф появился почти одновременно с первым радиоприемником. Братья Луи и Огюст Люмьер в марте 1895 г. провели опытную демонстрацию первых документально снятых кадров. К концу того же года был построен первый коммерческий кинотеатр в Париже. Изначально фильмы нельзя было даже считать таковыми, впрочем, кинотеатры и относились к «техническим аттракционам» под названием «живая фотография». Но очень скоро эти аттракционы стали серьезными конкурентами обычному театру. Нарождается новый вид искусства, более дешевый и мобильный. Вскоре вся территория США покрылась сетью кинотеатров, которые посещали до 5 млн зрителей в день. Стало ясно, что это также и большой бизнес [7]. Но долго ли можно заинтересовывать людей хотя и художественной, но мимикой и краткими субтитрами? Появление на экранах выдающихся актеров подняло престиж нового искусства до звания «великого немого», но, как говорят англичане, «чудо – только девять дней чудо». Количество посетителей кинотеатров стало сокращаться. Чтобы исправить положение, стали нанимать специальных музыкантов-таперов, сопровождавших киносеансы исполнением музыки. Великий А. Эдисон приспособил для этой цели свой фонограф. Некий изобретатель Гомон предложил почтеннейшей публике «хронофон». Под громким названием скрывалась обыкновенная грампластинка, вращаемая синхронно с кинолентой электродвигателем, где движение губ актеров более или менее совпадали со звуком. Но граммофон стоял возле киноэкрана, а проектор в другом конце зала. Управлять такой системой было сложно. Про качество звука [можно не вспоминать...] [В тот время Ли де Фор]ест оказался, что называется, не у дел. Электротехнические фирмы сливались в конгломераты. Гигантским компаниям он был не нужен, а довольствоваться положением рядового инженера с месячным жалованьем не позволяла гордость. И Форест решил заняться проблемами озвучивания фильмов. Его идея заключалась в том, что «световой зайчик» записывал на светочувствительной пленке вариации звука на звуковую дорожку параллельно изображению. Синхронность была идеальная. С помощью аудионов можно было добиться любой громкости. Для рекламы своего нового изобретения с 1923 по 1927 г. Ли де Форест снял более 100 звуковых короткометражек со многими известными актерами, предвосхитив появление современных видеоклипов. Изобретатель для рекламы своего «фонофильма» удивил соотечественников тем, что воспроизвел на киноэкране выступление 30-го президента США Кулиджа на лужайке перед Белым домом. Впервые американский лидер заговорил с экрана. Публику эта новинка привела в восторг. Снова началась кинолихорадка. Нарождался «Золотой век» Голливуда. Но воспользоваться этим успехом изобретателю не пришлось. «Адвокаты фирм «Вестерн Электрик» и «Телефон Компани», – записал биограф де Фореста М. Уилсон, – успешно обвели его вокруг пальца и воспользовались его изобретением безвозмездно». Большую и плодотворную жизнь прожил американский инженер Ли де Форест. Человечество многим ему обязано. Одним из первых он поверил в существование электрона, вместе с Флемингом заложил основы радиоэлектроники. Результаты его исследований нашли применение во многих привычных вещах: от суперсовременного мобильного телефона до штрих-кода на товарах. Однако, несмотря на многочисленные ходатайства, Нобелевской премии он так и не был удостоен. 5 октября 1956 г., спустя 50 лет после изобретения радиолампы (аудиона), правительство Франции наградило Ли де Фореста орденом «Почетного легиона». На вручении награды прозвучали слова, что «открытие Ли де Фореста является одним из величайших в истории науки и техники, а специалисты всех областей науки должны выразить свое почтение, свою признательность и свое восхищение». Произнес эти слова лауреат Нобелевской премии, физик Луи де Бройль, один из создателей квантовой физики. А он-то знал, что говорил. Борис Хасапов ЛИТЕРАТУРА 1. Митчелл Уилсон. Американские ученые и изобретатели. – М., Знание, 1964. С. 129. 2. Родионов В. М. Зарождение радиотехники. – М., Наука, 1985. С. 87-89. 3. Попов А. С. К 50-летию изобретения радио: Сб. документов. – Л., 1975, С. 205-206. 4. Рыбкин П. Н. Десять лет с изобретателем радио. – М., Связьиздат, 1946. С. 48-49. 5. Фессенден Р. Беспроволочная телефония // Электрические колебания и волны: Сборник. Вып. 1. – СПБ, 1910. С. 65-116 6. Флеминг Д.А. Новые шаги в развитии телеграфирования с помощью электрических волн/ «Электрические колебания и волны». Сборник. Вып. 1. СПБ, 1910, с. 50-51 6. Энциклопедический словарь Гранат. Т. 24, изд. 13, М., 1914 Ли де Форест 2013-12-26 13:26 Сергий Сергий: Гении прокладывают дороги в науках, а люди, обладающие умом и вкусом, разравнивают и украшают их. Улучшение дорог следует рекомендовать, для того чтобы лучше переходить с одной стороны на другую. Г. К. Лихтенберг (1742–1799) Какой нации не хотелось бы назвать одного из своих сыновей изобретателем радио и числить приоритет великого открытия за своей родиной? Вот почему уже столетие не утихают споры среди историков науки. Приводятся убедительнейшие доводы и мнения, в которых фигурирует не так уж много имен: Максвелл (Англия), Герц (Германия), Бранли (Франция), Попов (Россия), Маркони (Италия). Среди этой плеяды великих умов, каждый из которых заслуживает чести быть включенным в «жизнеописание» нового средства связи, можно встретить и других ученых, «рангом пониже». Но даже среди них американский инженер Ли де Форест кажется фигурой, на первый взгляд, не совсем подходящей для роли основателя радио. Ведь к исследованиям в области радиотелеграфии он приступил, уже после того как первые сигналы были переданы через Атлантику, а искровой телеграф, как тогда называли радио, достаточно широко использовался на практике. Но почему же на родине инженера-ученого, в США, его имя произносят в сочетании со словами «отец радио» и даже «дедушка телевидения»? Ведь для этого должны быть веские основания. И они есть. Радиотелефон – это актуально Конец ХIХ в. был ознаменован событием, которому вначале придали мало значения. Ассистенты А. С. Попова – П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий обнаружили с нынешней точки зрения «самоочевидную» вещь. Пытаясь найти неисправность в радиоприемнике «прозвонкой» электрических цепей с помощью обыкновенной телефонной трубки, они отчетливо услышали радиосигналы азбуки Морзе ближайшей радиостанции. Во-первых, это означало, что с помощью радиоволн можно передавать звуковые сигналы. Во-вторых, появилась возможность принимать на слух маломощный сигнал, на который не реагировало реле приемника – непременный элемент первых конструкций. 26 июля 1899 г. А. С. Попов получает российскую привилегию и патенты в Англии и Франции на «Телефонный приемник депеш, посылаемых с помощью электромагнитных волн по системе Морзе» [2]. Испытания новой системы связи было решено провести на действующей эскадре Черноморского флота. Во время летней кампании 1901 г. в районе Новороссийска дальность передач временами достигала 80 миль (около 150 км). Хотя зона уверенного приема была чуть меньше, но вывод, что радиоволны воспринимаются и за линией горизонта, был однозначен [3]. Здесь уместно привести классический пример «благоглупости», когда бюрократия стоит на пути развития прогресса. «Командование Черноморского флота, – сообщил Рыбкин, – запретило использование радиотелефонов на флоте, ссылаясь на то, что телеграфная лента является документом, в то время как доверять радисту, принимавшему на сл потребовали подтверждать гербовой печатью. А время шло, впереди были трагедии Цусимы и «Титаника», однако никаких стимулов для проведения исследовательских работ в области передачи человеческой речи по радио не было. В США в тот период такие работы уже начались. Их результаты показали, что искровые передатчики для этой цели не годятся и частота несущей волны должна составлять не менее 10 тыс. периодов в секунду. Вопросами радиотелефонии занялся инженер Р. Фесенден, создавший высокочастотные электромашинные генераторы (альтернаторы). С 1906 г. с их помощью и были проведены первые радиотелефонные переговоры на побережье Атлантики. Кстати, их темой была стоимость рыбы на Бостонском рынке. Судоводители в США отказались изучать правила работы на телеграфном ключе, поэтому было решено иметь радистов только на пассажирских судах (другие суда оборудовались только радиотелефоном). «Аудион» – так названо изобретение Ли де Форест появляется на арене работ по искровому телеграфу в 1900 г. Сменив несколько лабораторий пионеров нового вида связи, в 1902 г. он организует собственную «Американскую компанию беспроволочного телеграфа». Из электротехники ему было известно, что при облучении воздуха пламенем горящей свечи он становится проводимым. То же происходило при нагревании любого разреженного газа. Уверенный, что рано или поздно среди светящихся под действием электрического тока газов может быть найден хороший детектор для волн Герца, Ли де Форест приступает к экспериментам. Уже в 1903 г. он произвел очень удачный и перспективный опыт. Две платиновые обкладки воздушного конденсатора «лизало» пламя горелки, а на плазму внутри его действовало поле электромагнитной катушки, включенной между антенной и землей (рис. 1). С помощью этого детектора Ли де Форест принял сигналы с судна, стоящего в Нью-Йоркской гавани. Первый успех окрылил изобретателя. Но применить такое устройство на практике не представлялось возможным. «Было очевидно, что для судовой радиостанции приспособление с газовым пламенем неприемлемо, – записал изобретатель, – поэтому я стал искать способ нагревать газ непосредственно электрическим током». Проще всего для этой цели было использовать обыкновенную эдисоновскую электролампочку, введя туда платиновые пластинки электродов и обернув частью приемной катушки стеклянный баллон лампы. Впоследствии один из платиновых электродов был удален, а вместо него была применена раскаленная нить лампы (рис. 2). Радиоприемник с таким детектором работал не хуже других аналогичных приборов, но и не лучше. Проводя многочисленные опыты, Ли де Форест однажды обернул стеклянный баллон лампы металлической фольгой, соединенной с антенной. Приемник стал более чувствительным. «В тот момент, – вспоминает ученый, – я понял, что эффективность лампы может быть увеличена, если третий электрод поместить внутрь». Что экспериментатор и поспешил сделать. Качество приема возросло. Дальнейшие опыты приводят изобретателя к мысли, что это эффективным, если поместить его между нитью накаливания и токоприемной пластиной. «Очевидно, – догадывается Ли де Форест, – что третий электрод не должен быть сплошной пластиной». Начались поиски материалов, форм и размеров электрода, а также места его расположения между двумя выводами лампочки. Наиболее удачной оказалась конструкция, в которой роль одного электрода выполняла раскаленная нить накала лампочки, помещенной в другой электрод в виде цилиндра. Между ними и располагался третий электрод, выполненный в виде проволочной спирали (рис. 3). Свое детище изобретатель назвал «аудионом» (от латинского «аудио» – слышать и греческого «ион» – идущий). Качество работы устройства определялось по силе звучания принимаемого сигнала на слух, и она превосходила все применявшиеся до этого приборы. Позже с легкой руки английского электротехника Вильяма Икклза лампы с тремя электродами стали называть триодами. Поиски истины и открытие Флотские радисты (а именно на флоте применялось новое средство связи), стремясь увеличить чувствительность аудионов, разогревали нить накала до недопустимых пределов, и они перегорали. Специалисты военно-морского флота, не разобравшись в проблеме, дали распоряжение «не приобретать аудионы, а пользоваться старыми детекторами». Ученые не находили ничего нового в конструкции Ли де Фореста. Вот что писал изобретатель диода Флеминг: «В октябре 1906 г. д-р Форест описал прибор, названный им аудионом, который является простым повторением моего, описанного восемнадцатью месяцами раньше. Введенное изменение не дает существенного различия в действиях прибора как детектора» [6]. Написано это в 1907 г., но даже в 1908-м француз К. Тиссо подтверждает приоритет Флеминга. Интересен тот факт, что оба изобретателя оригинальных электронных приборов, принявших электрон как реальность, подходили к определению приоритета с разных позиций. Флеминг считал приборы электронными, а Ли де Форест – ионными. Однако ничего удивительного в этом нет. Существовавшие в то время вакуумные насосы, предназначавшиеся для производства электрических лампочек накаливания, были настолько несовершенными, что это позволяло трактовать процессы, происходящие в аудионе, двояко. Ли де Форест считал, что его прибор работает по принципу ионизации глубоко разреженного газа. Только изобретение диффузионных вакуумных насосов и многолетние исследования позволили досконально изучить возможности радиолампы с дополнительным электродом и убедиться в электронном характере его внутренних процессов. Поистине революционной стала способность аудиона усиливать поступающий на него сигнал. Радиоприемники теперь могли воспринимать сигналы удаленных радиостанций или очень слабые. Мощности передатчиков могли быть уменьшены, что способствовало более широкому распространению радиотелефона. Однако развитие систем передачи человеческой речи не ставило своей задачей внедрение радиовещания, информации или музыкальных перике нужна была радиотелефония для деловой и выгодной двусторонней связи, но случилось непредвиденное... Всем надоела назойливая радио- и телереклама. Но ради исторической справедливости нужно признать, что радиореклама появилась раньше радиовещания. И самое непосредственное отношение к ней имеет не кто иной, как изобретатель аудиона. Вот что писал сам Ли де Форест: «В 1909 г. я производил радиотелефоны для США. Каждый комплект был испытан с помощью записей фонографа. К моему удивлению, многие радиолюбители и профессиональные операторы наслаждались этими контрольными передачами. Естественно, мне пришла идея относительно радиовещания. Привлекательная музыка и интересные программы могли передаваться в эфир, создавая спрос на беспроводное оборудование». В целях рекламы были организованы первые трансляции в прямом эфире из Нью-Йоркской «Метрополитен опера», а в ноябре 1916 г. была воплощена идея пере- дачи процедуры подсчета голосов во время президентских выборов. Именно она резко повысила интерес к широковещательным передачам по радио. Впервые в мире регулярное радиовещание началось в США из города Питсбурга с 1921 г. Первая радиореклама, в которой расписывались достоинства и низкая стоимость квартир в высотках Лонг-Айленда, была передана в 1922 г. из Нью-Йорка. Однако к ней Ли де Форест не имел никакого отношения. Еще одно открытие Успешно внедрив свой аудион в радиоприемник, Ли де Форест не мог пройти мимо идеи использовать его в радиопередатчике. Дело в том, что генерирование радиоволн сопряжено с устройствами, осуществляющими колебательные процессы. Таких излучателей колебаний в природе множество. Это и звучащий колокол, и голосовые связки, и качающаяся под потолком люстра, и маятник настенных часов. В электричестве можно создать источник колебаний, объединив в цепь заряженный конденсатор и индуктивность, образовав так называемый колебательный контур. Все природные колебательные системы выдают затухающие колебания. Струна через какое-то время перестает звучать, морские волны успокаиваются. Колебания в контурах тоже затухают. Для высококачественных радиопередач требуются колебания незатухающие. А это непросто сделать. Для длинноволнового диапазона можно создать машинный генератор высокочастотных колебаний. А как решить вопрос с колебательным контуром, обеспечивающим колебания практически любой частоты? Вот, например, в настенных часах для создания незатухающих колебаний маятника в течение нескольких суток были встроены специальные механизмы, которые регулярно подталкивают маятник в строго определенный момент по фазе его движения. Энергия для этого берется у поднятых гирь или заведенной пружины. Устройство называется анкерным механизмом. А как быть с колебательным контуром? Ли де Форест включает колебательный контур в цепь сетки своего аудиона, и по электрическим цепям усиленный сигнал с колебательного контура вновь попадает на этот же контур, «подталкивая» в нужный момент колебания, чтобы амплитуда иткрытие в электротехнике было названо положительной обратной связью и ныне применяется в тысячах разных устройств. Патент на эту систему Ли де Форест получил в 1915 г. Теперь никакого труда не составляло получать электрические колебания нужных частот. Правда, первые ламповые генераторы сначала не могли обеспечить потребных для передатчиков мощностей. Начнется жесточайшая конкуренция между альтернаторами и ламповыми генераторами. В конце концов альтернаторы исчезнут из употребления, а электронная лампа займет подобающее ей место. Но изобретатель аудиона был бы не американцем, если бы не нашел практического применения своему устройству не только на радио. Он создает первый электронный музыкальный инструмент. Сконструировав на аудионах электрический генератор звуковых частот по одному триоду на каждую октаву и усилив сигналы, он подает их в громкоговорители, расположенные по периметру комнаты. Так попутно решаются вопросы объемного звука. Но, главное, изменяя настройку колебательных контуров, Ли де Форесту удалось получить чарующие, непривычные для человеческого слуха звуки. Свой инструмент Ли де Форест назвал «аудион-пиано». При этом были высказаны пророческие слова: «Я надеюсь, что с помощью этой маленькой электронной лампы смогу сделать инструмент достаточно совершенный, чтобы музыканты могли реализовывать свои самые богатые музыкальные фантазии». «Великий немой» заговорил Кинематограф появился почти одновременно с первым радиоприемником. Братья Луи и Огюст Люмьер в марте 1895 г. провели опытную демонстрацию первых документально снятых кадров. К концу того же года был построен первый коммерческий кинотеатр в Париже. Изначально фильмы нельзя было даже считать таковыми, впрочем, кинотеатры и относились к «техническим аттракционам» под названием «живая фотография». Но очень скоро эти аттракционы стали серьезными конкурентами обычному театру. Нарождается новый вид искусства, более дешевый и мобильный. Вскоре вся территория США покрылась сетью кинотеатров, которые посещали до 5 млн зрителей в день. Стало ясно, что это также и большой бизнес [7]. Но долго ли можно заинтересовывать людей хотя и художественной, но мимикой и краткими субтитрами? Появление на экранах выдающихся актеров подняло престиж нового искусства до звания «великого немого», но, как говорят англичане, «чудо – только девять дней чудо». Количество посетителей кинотеатров стало сокращаться. Чтобы исправить положение, стали нанимать специальных музыкантов-таперов, сопровождавших киносеансы исполнением музыки. Великий А. Эдисон приспособил для этой цели свой фонограф. Некий изобретатель Гомон предложил почтеннейшей публике «хронофон». Под громким названием скрывалась обыкновенная грампластинка, вращаемая синхронно с кинолентой электродвигателем, где движение губ актеров более или менее совпадали со звуком. Но граммофон стоял возле киноэкрана, а проектор в другом конце зала. Управлять такой системой было сложно. Про качество звука [можно не вспоминать...] [В тот время Ли де Фор]ест оказался, что называется, не у дел. Электротехнические фирмы сливались в конгломераты. Гигантским компаниям он был не нужен, а довольствоваться положением рядового инженера с месячным жалованьем не позволяла гордость. И Форест решил заняться проблемами озвучивания фильмов. Его идея заключалась в том, что «световой зайчик» записывал на светочувствительной пленке вариации звука на звуковую дорожку параллельно изображению. Синхронность была идеальная. С помощью аудионов можно было добиться любой громкости. Для рекламы своего нового изобретения с 1923 по 1927 г. Ли де Форест снял более 100 звуковых короткометражек со многими известными актерами, предвосхитив появление современных видеоклипов. Изобретатель для рекламы своего «фонофильма» удивил соотечественников тем, что воспроизвел на киноэкране выступление 30-го президента США Кулиджа на лужайке перед Белым домом. Впервые американский лидер заговорил с экрана. Публику эта новинка привела в восторг. Снова началась кинолихорадка. Нарождался «Золотой век» Голливуда. Но воспользоваться этим успехом изобретателю не пришлось. «Адвокаты фирм «Вестерн Электрик» и «Телефон Компани», – записал биограф де Фореста М. Уилсон, – успешно обвели его вокруг пальца и воспользовались его изобретением безвозмездно». Большую и плодотворную жизнь прожил американский инженер Ли де Форест. Человечество многим ему обязано. Одним из первых он поверил в существование электрона, вместе с Флемингом заложил основы радиоэлектроники. Результаты его исследований нашли применение во многих привычных вещах: от суперсовременного мобильного телефона до штрих-кода на товарах. Однако, несмотря на многочисленные ходатайства, Нобелевской премии он так и не был удостоен. 5 октября 1956 г., спустя 50 лет после изобретения радиолампы (аудиона), правительство Франции наградило Ли де Фореста орденом «Почетного легиона». На вручении награды прозвучали слова, что «открытие Ли де Фореста является одним из величайших в истории науки и техники, а специалисты всех областей науки должны выразить свое почтение, свою признательность и свое восхищение». Произнес эти слова лауреат Нобелевской премии, физик Луи де Бройль, один из создателей квантовой физики. А он-то знал, что говорил. Борис Хасапов ЛИТЕРАТУРА 1. Митчелл Уилсон. Американские ученые и изобретатели. – М., Знание, 1964. С. 129. 2. Родионов В. М. Зарождение радиотехники. – М., Наука, 1985. С. 87-89. 3. Попов А. С. К 50-летию изобретения радио: Сб. документов. – Л., 1975, С. 205-206. 4. Рыбкин П. Н. Десять лет с изобретателем радио. – М., Связьиздат, 1946. С. 48-49. 5. Фессенден Р. Беспроволочная телефония // Электрические колебания и волны: Сборник. Вып. 1. – СПБ, 1910. С. 65-116 6. Флеминг Д.А. Новые шаги в развитии телеграфирования с помощью электрических волн/ «Электрические колебания и волны». Сборник. Вып. 1. СПБ, 1910, с. 50-51 6. Энциклопедический словарь Гранат. Т. 24, изд. 13, М., 1914 Ли де Форест 2013-12-26 14:11 Сергий Сергий: Цитата (Сергий @ Сегодня, 13:26) Какой нации не хотелось бы назвать одного из своих сыновей изобретателем радио и числить приоритет великого открытия за своей родиной? Этот вопрос не вполне верно задан.Цитата (Сергий @ Сегодня, 13:26) Вот почему уже столетие не утихают споры среди историков науки. Приводятся убедительнейшие доводы и мнения, в которых фигурирует не так уж много имен: Максвелл (Англия), Герц (Германия), Бранли (Франция), Попов (Россия), Маркони (Италия). Почти все из перечисленных здесь ученых и изобретателей имеют отношение к изобретению радио......а вот Ли де Форест является на деле не "отцом радио" и не "дедушкой телевидения", а родоначальником всей существующей электроники. Он первым додумался не только передавать и принимать сигналы, но и усиливать их - т. е. слаботочная электрическая цепь стала с высокой точностью управлять сильноточной цепью. Компьютер, перед которым вы сейчас сидите, просто напичкан микроскопическими потомками первого электронного усилительного прибора аудион (триод). Новейшие технологии сильно изменили характеристики, конструкцию, структуру, материал, и внешний вид этого прибора, между тем принцип его работы остался (в основном) прежним. Новейшие микропроцессоры в конечном счете состоят из транзисторов, а по своему принципу работы полевые транзисторы недалеко ушли от первого аудиона. Тонхак 2013-12-26 16:09 Чжан Гэда Чжан Гэда: Со Чанъок (徐璋玉) – выходец из монашества, в течение 30 лет совершенствовался в буддизме, был крупным религиозным лидером южных приходов тонхак. Известен также под именем Инджу (仁周), псевдонимом его был Ильхэ (一海). Он стоял во главе секты и руководил восстанием, являясь одним и руководителей крестьянской армии приходов секты тонхак сопхо в провинции Южная Чхунчхон. Со Чанъок с раннего возраста в течение 30 с лишним лет изучал буддийское вероучение, а примкнув к тонхакам, в 1894 г. выступал вместе с Чон Бонджуном. Возглавляемые Со Чанъоком приходы именовались "южные приходы из Хосо", а также "сопхо". В детстве Со Чанъок был отдан в монахи и в течение 30 лет изучал буддизм. В зрелом возрасте встретился с Чхве Джеу и стал его учеником. Однако после казни Чхве Джеу он и Чхве Сихён создали разные ответвления вероучения тонхак. После ареста и казни основателя вероучения Чхве Джеу учение разделилось на 2 больших течения. Одно выражало умеренное мировоззрение Чхве Сихёна, а второе – радикальное мировоззрение Со Чанъока. Тем не менее, оба течения приняли участие в восстании тонхаков и поддерживали друг друга. Приходы поппхо (сторонники Чхве Сихёна) также разделились на северные, руководимые Чхве Сихёном и Сон Бёнхи, и южные, руководимые Чон Бонджуном и Ким Гэнамом. Со Чанъок жил в 1884 г. в Чхонджу. В этот период в провинции Чхунчхон наиболее ревностными подвижниками, распространявшими учение, были Чхве Сихён и Хван Хаиль. Со Чанъок присоединился к ним и стал вместе с ними выдающимся руководителем вероучения тонхак. Осенью 1889 г. он был схвачен властями во время посещения Сеула. В это время уже начались аресты лидеров учения официальными кругами. Во время ареста он претерпел всяческие мучения от рук полицейских и, в результате, был сослан на остров Кымкапто в уезде Чиндо провинции Чолла. 2-й патриарх тонхак Чхве Сихён собрал много денег для того, чтобы освободить Со Чанъока, и даже когда принимал пищу или совершал моления Небу, то каждый раз молился за его жизнь. Однако как только Со Чанъок вернулся из ссылки, то вместе с Со Бёнхаком он начал проводить собрания секты сопхо в Конджу и Самне, придерживаясь крайне жесткой линии. Вследствие этого Чхве Сихён и прочие руководители секты, придерживавшиеся более умеренных взглядов, вступили с ними в трения. Тогда Со Чанъок и Хван Хаиль взяли курс на самостоятельные действия - реформы и изменения в обществе, в т.ч. насильственным путем. В своих действиях Со Чанъок опирался на своих учеников из Чолладо – Сон Хваджуна, Ким Гэнама, Ким Донъмёна, Чон Бонджуна и прочих. При их помощи он начал выстраивать тайную организацию южных приходов. В ноябре 1892 г. во время собрания секты в Самне, которым руководил Со Чанъок, тонхаки решили направить петицию государю. Они смогли силой преодолеть негативное отношение Чхве Сихёна к этой идее и стали побуждать людей к активным действиям. Но истинным намерением Со Чанъока была вовсе не подача петиции - путем подачи петиции он стремился организовать народ и поднять восстание. Уже во время собрания в Самне Со Чанъок понимал ограниченность петиционного движения. К тому же он после собрания в Самне, как руководитель, подлежал аресту полицией, т.к. подача петиции непосредственно монарху каралась арестом зачинщиков (их могли пощадить, а могли и покарать). Со Бёнхак и Со Чанъок решили «считать установлениями: сменив одежду, вместе с правительственными войсками уничтожить злодеев в правительстве и изменить образ правления». Прибыв во 2-м месяце 1893 г. в столицу, во время подачи петиции он сразу начал активную пропагандистскую деятельность, сообразуясь с обстановкой. На Восточных и Северных воротах, на церквях, зданиях миссий и в других местах были расклеены воззвания, призывавшие к борьбе с американскими миссионерами и японскими торговцами. Даже на казарме цинских войск (у Юань Шикая было около роты солдат в Сеуле) появилось воззвание. Со Чанъок в своих предостережениях писал: «Срочно убирайтесь в свои страны», «если до 7-го дня 3-го месяца не уберетесь – понесете кару». Эти прокламации заставили американцев и японцев бояться вспышек ксенофобии среди корейцев и всколыхнули сердца сеульцев. Однако возглавляемые Со Чанъоком немногочисленные тонхаки, прибывшие в Сеул, так и не смогли причинить какого-либо реального вреда ни европейским и американским миссионерам, дипломатам, японским торговцам и цинским военным. Однако об их деятельности по расклейке прокламаций стало известно основной части тонхаков. Их сеульский план стал известен членам секты, соответственно, Чхве Сихён, Сон Бёнхи, Ким Ёнгук, Сон Чхонмин и прочие умеренные лидеры воспротивились ему и он потерпел крах. После петиции, поданной в феврале 1893 г. в Сеуле, последовало собрание секты в Поын, где ярко проявился лозунг «чхок ян, чхок вэ» (斥洋斥倭 - изгнать европейцев, изгнать японцев). Когда началось собрание в Поын, возглавленное Чхве Сихёном, в провинции Чолла, в уезде Кымгу, деревне Вонпхён, собрались сторонники Со Чанъока и Чон Бонджуна. Собрание в Вонпхён стало начальным этапом формирования крестьянской армии. Кроме Со Чанъока, это собрание возглавили Чон Бонджун и Ким Донъмён. Устроив собрание в Вонпхен, секта сопхо обострила отношения с собравшимися в Поын членами секты поппхо. Во время собрания в Вонпхён со стороны южных приходов для контроля за проводимым северными приходами сбором в Поын послали монаха Кынъёпа. Вобще, в ходе крестьянской войны в год кабо Со Чанъок был не единственным буддийским монахом, который участвовал в восстании – к восстанию присоединилось довольно много монахов, т.к. буддизм не поощрялся в Корее и влачил жалкое существование. В Вонхён прибыли следующие монахи-наставники: из Пульгапса – Инвон, из Сонунса – Уёп, из Пэгъянса – Суён Было много монахов и из других монастырей в Хонам (общее название провинций Чолла и Чхунчхон). В марте 1894 г. масштабы столкновений крестьянской армии с правительственными войсками резко увеличились. Начались аресты лидеров тонхак. В 6-м месяце Со Чанъок был захвачен правительственными силами. Однако даже под пытками он не выдал товарищей. Его почти замучили насмерть, но потом перевезли в "левое полицейское управление", где держали под замком, а потом освободили. Похоже, его освободили, т.к. боялись, что за его гибель можно было понести наказание со стороны высших правительственных органов, пытавшихся умиротворить повстанцев. Силы крестьянской армии, составленной из членов секты сопхо в провинции Чхунчхон в сравнении с силами в провинции Чолла были слабее. В сентябре 1894 г. ёнгван гвардейской части Чанвиён И Духван (который принимал участие в боях весной 1894 г.) вместе со сменившим фронт руководителем тонхаков Со Бёнхаком провел карательный поход против тонхаков в провинциях Кёнги и Чхунчхон. Начиная с этого момента в разведывательных сводках правительственных войск вновь стали появляться сведения о Со Чанъоке: Цитата Среди заслуженных конфуцианцев Хо Монсук, Со Чанъок и прочие собрали 5-6 десятков тысяч людей в Ёнсупхо, что в Чхунджу, тонхаки Син Чэрён и прочие собрали 4-5 десятков тысяч человек в Кванхевоне, что в Чинчхон, поэтому они и решились на рукопашный бой Во время повторного восстания в сентябре 1894 г. характер крестьянской войны изменился – подняться повсеместно, чтобы изгнать японские войска стало главной задачей повстанцев. Когда члены северных приходов отправились к Нонсану и Конджу, Со Чанъок не пошел с ними, а попробовал захватить казармы в Чхонджу, но не преуспел в этом. Поскольку он был ранее буддийским монахом, то некоторое время скрывался в монастыре и не был пойман сразу же после подавления восстания. Где он скрывался и что делал – доподлинно неизвестно. Но в 1900 г. он все же был арестован. В день зимнего солнцестояния его вместе с Сон Самуном осудили на удушение. Приговор был незамедлительно приведен в исполнение. Археологические находки 2013-12-26 16:26 Saygo Saygo: Вот еще новость из разряда "бабка надвое сказала". В Гоа найдены мощи кахетинской царицы-мученицы Кетеван В Индии во время раскопок развалин церкви на западном побережье в Гоа был обнаружен каменный саркофаг с останками, принадлежащими вероятно, грузинской царице Кетеван, являвшейся в 17 веке правительницей Кахетии.  Из литературных источников известно, что когда Кахетия (Восточная Грузия) была завоевана персами в 1613 году, Кетеван захватили в плен и препроводили в Шираз. После отказа принять ислам и поступить в гарем персидского шаха Аббаса I, её пытали и задушили 11 лет спустя 22 сентября 1624 года. Удушение Кетеван Перед этим в 1623 году, два миссионера-августинца прибыли в Шираз. Он знали царицу лично и даже стали ее исповедниками. После гибели Кетеван они в 1627 году обнаружили ее останки и часть из них (правую руку) перевезли на Гоа в монастырь Св.Августина.  Разрушенная колокольня церкви Божьей Матери в монастыре Св. Августина на Гоа В середине XIX века храм разрушился, но грузинские и индийские археологи сумели найти и восстановить кость руки правительницы. Анализ митохондриальной ДНК, взятой из этой кости выявил, что она скорее из Грузии, чем из Индии. Этот анализ дает основание предполагать, что кость принадлежит царице-мученице Кетеван. Верховный Правитель России Александр Васильевич Колчак 2013-12-26 16:44 Saygo Saygo: Андрей Кручинин и Василий Жанович Цветков в выпуске "Час истины. Адмирал Колчак. Романтик и реалист" Тонхак 2013-12-26 16:50 Чжан Гэда Чжан Гэда: Пак Инхо: Тонхак 2013-12-26 16:53 Чжан Гэда Чжан Гэда: Собственно говоря, как видится, Со Чанъок - интересный представитель учения. И его деятельность, его непримиримый настрой, объясняют то, каким образом недавно примкнувший к тонхаку Чон Бонджун (по его словам на допросе он вступил в секту не ранее 1892 г.) стал безоговорочным лидером восстания - он просто был учеником Со Чанъока и стоял на его плечах. Скорее всего, ему сильно помогали его врожденные способности организатора и полководца, но тайную организацию секты, использованную для разворачивания отрядов, подготовил более влиятельный и долго вращавшийся в системе Со Чанъок. Тонхак 2013-12-26 16:55 Чжан Гэда Чжан Гэда: Мэчхон о тонхаках в "Оха кимун": Цитата "처음 동학에서는 그 무리를 포(布)라고 불렀는데 법포(法布)와 서포(徐布 또는 西布)로 나뉘었다. 법포는 최시형을 받드는데 법헌이라는 최시형의 호에서 이름을 따왔다. 서포는 서장옥을 받든다. 서장옥은 수원 사람으로 최시형과 함께 교조 최제우를 따라 배웠다. 최제우가 죽자 각기 자기 도당을 세워 서로 전수하면서 이를 포덕이라 하였다. 이들은 동학이 궐기할 때 서포가 먼저 일어나고 법포가 뒤에 일어나기로 약속하였기 때문에 서포는 또 기포(起布)라 하고 법포는 좌포(坐布)라 불렀다. 전봉준이 주동하여 일어날 적에는 모두 서포였다." Перевод: Цитата Сперва члены тонхак объединялись в пхо, которые делились на поппхо и сопхо. Поппхо поддерживали Чхве Сихёна, псевдонимом которого был Попхон, в честь чего и они называли себя. Сопхо поддерживали Со Чанъока. Со Чанъок был из Сувона и вместе с Чхве Сихёном учился у основателя учения Чхве Джеу. Как только погиб Чхве Джеу, каждый из этих двоих создал свою секту, которые пересекались между собой. Это именовали пходок (распространение добродетели). Когда поднялся тонхак, они договорились, что сопхо поднимутся первыми, а поппхо продолжат. Поэтому сопхо называли "поднимающийся пхо" (кипхо), а поппхо - "сидящий пхо" (чвапхо). Когда Чон Бонджун принял руководство, то все восставшие были из сопхо. Далекий Серкланд 2013-12-26 17:22 Сергий Сергий: Цитата (Чжан Гэда @ Сегодня, 11:36) А Снорри Стурлуссон был убит в 1241 г. ...а его основной "информатор" родился в 1067 году, через год после смерти Харальда Сурового.Цитата Священник Ари Мудрый, сын Торгильса, сына Геллира, был первым здесь в стране, кто записал на северном языке. мудрые рассказы, старые и новые. В начале своей книги он написал больше всего о заселении Исландии и тамошнем законодательстве. Затем о законоговорителях, о том, как долго каждый из них возвещал закон. Он установил счет лет сперва до введения христианства в Исландии, а затем до своего собственного времени. Он рассказал еще о многом другом, о конунгах в Норвегии и Дании, а также в Англии, о важных событиях, которые произошли здесь в стране, и я считаю весь его рассказ заслуживающим полного доверия. Он был очень мудр и так стар, что он родился в следующую зиму после гибели конунга Харальда сына Сигурда "Хеймскрингла" Пролог.Цитата (Чжан Гэда @ Сегодня, 11:36) Поэтому то, что ученик Сэмунда Мудрого мог что-то не знать, не делает автоматически викингов/варягов невежественными относительно тех мест, куда они ходили. Кто ходил?Когда ходил? Куда ходил? Что об этом запомнили и рассказывали затем соотечественники? Для того, чтобы без домыслов найти ответы на эти вопросы и открыта эта ветка Цитата (Чжан Гэда @ Сегодня, 11:36) Ну и как там насчет русов на Крите, в Испании и т.п.? Чжан Гэда, по вашим словам русь - "восточные скандинавы", а это не совсем (или совсем не... Цитата (Чжан Гэда @ Сегодня, 11:36) Ну и как там насчет русов на Крите, в Испании и т.п.? Русь в Испании - это искреннее заблуждение арабского книжника. Юлиан Отступник 2013-12-26 21:27 Saygo Saygo: Е.А. Пак. Религиозная политика Юлиана Отступника  Предположительно скульптура изображает Юлиана Центральное место во внутренней политике императора Юлиана Отступника занимала его религиозная реформа. Более того, можно сказать, что и личность и правление этого императора исследователи рассматривают через призму его религиозной политики. Преобразования Юлиана, прежде всего, коснулись языческого культа и христианской религии. Хотя он и происходил из семьи равноапостольного императора Константина Великого и получил христианское образование, тем не менее, в силу обстоятельств, он испытывал к христианству настоящую ненависть. В римской истории уже были императоры, стремившиеся путем притеснений и гонений уничтожить христианство, как несоответствующую традиционным верованиям, маргинальную секту. Однако позиция Юлиана отличалась от тактики его предшественников. Во время правления Юлиана не было официальных гонений против христиан, а многочисленных мучеников, упоминаемых церковной традицией, исследователи считают художественным вымыслом враждебно настроенных против Юлиана авторов. Тем не менее, начиная с IV в., преобладало отрицательное мнение о религиозной политике Юлиана, как одного из гонителей христианства. Такая позиция объясняется несомненным влиянием церковной традиции, крайне отрицательно настроенной по отношению к Юлиану. Только в век Просвещения о Юлиане заговорили как о просвещенном монархе, философе на троне и стороннике веротерпимости{1}. Однако немецкий ученый Ф. Роде в своей работе «История реакции императора Юлиана против христианской церкви» впервые рассмотрел развитие религиозной политики Юлиана, а также подчеркнул, что по отношению к христианству она становится все более жесткой{2}. В XIX - начале XX в. ученые, исследуя причины отступничества Юлиана от христианства, старались воссоздать исторические реалии и мировоззренческую среду того времени{3}. Исследователи предполагают, что главным мероприятием Юлиана в сфере религии была попытка превратить традиционный языческий культ в религию, способную соперничать с христианством. Вследствие этого язычество приобрело черты, свойственные организации христианской церкви. Большинство исследователей Нового времени придерживались этой точки зрения и предполагали, что христианство, несомненно, оказало влияние на мировоззрение Юлиана. Однако еще более интересным нам кажется вопрос об отношении Юлиана к христианству и его законах относительно христиан. В данной статье мы рассмотрим основные мероприятия религиозной политики Юлиана, а также коснемся положений его собственной религиозной системы. Мы считаем большой удачей то обстоятельство, что Юлиан оставил нам довольно большой корпус своих сочинений, среди которых выделяются его многочисленные письма. Несмотря на то, что Юлиан не собирал свою переписку, подобно Либанию, его письма сохранились на удивление хорошо. В виде беспорядочных сборников они распространялись и при жизни Юлиана, и после его смерти. Письма Юлиана - это очень важный источник, прежде всего, по его религиозной политике. Ведь христианские авторы (Григорий Богослов, Созомен, Сократ) были склонны рассматривать политику Юлиана в негативном свете, а языческие авторы, и, прежде всего, Аммиан Марцеллин, в своих сочинениях уделили мало места этой стороне преобразований Юлиана. Правда, письма Юлиана отличаются эмоциональным стилем и беспорядочностью рассуждений, но исследователи обычно объясняют эти стилистические особенности спешкой, в которой работал император. Тем не менее, изучая письма Юлиана, мы можем составить представление об его религиозных реформах, коснувшихся и языческого культа и христианской церкви. Для того чтобы правильно оценить мотивы реформ Юлиана, мы кратко остановимся на положении язычества и христианства ко времени правления Юлиана. Несмотря на то, что язычество утратило свой статус государственной религии Римской империи и внешние преимущества, оно еще прочно удерживало свои позиции внутри римского общества. Император Константин Великий не решился открыто запретить исповедовать языческие культы, так как сознавал их значение для населения империи как национальной религии{4}. Были запрещены лишь наиболее безнравственные и жестокие культы, закрыты некоторые языческие храмы, а их имущество конфисковано (Euseb. Vit. Const., III, 54, Soz. Hist. Eccl., II, 5). В основном, эти запреты касались восточных областей империи, где языческие культы были особенно популярны. Подчеркнем, что старая религия, более не являясь государственной, тем не менее, сохранила свое значение в государственном праве: Константин Великий до самой смерти носил положенный ему по статусу титул верховного жреца (pontifex maximus) Римской империи. Той же благоразумной веротерпимости придерживались и его сыновья. Тем не менее, в 341г августы Констанций и Констант подтверждают закон своего отца о запрещении гадателей и ночных жертвоприношений (CTh, XVI, 10, 2). Однако уже в 353 г. были запрещены ночные жертвоприношения (CTh, XVI, 10, 5), а закон 356 г. предусматривал закрытие всех языческих храмов (CTh, XVI, 10, 4) и определил смертную казнь всякому, кто будет уличен в жертвоприношениях и поклонении идолам (CTh, XVI, 10, 6). К 357 г. относятся два закона императора Контанция II против прорицаний, которыми занимались языческие гадатели (CTh, IX, 16,4,6). Однако русский исследователь Я. Алфионов полагает, что эти законы не были изданы во время царствования Констанция II, а были извлечены позже и включены в свод законов Феодосия II{5}. Политика Констанция II коснулась не только язычества, но хрихристианства. Церковный историк Созомен пишет, что сначала Констанций придерживался положений Никейского собора, однако потом склонился к арианству (Soz. Hist. Eccl., IV, 6; Theod. Hist. Eccl., II, 3). Поэтому начавшаяся еще при Константине Великом теологическая борьба между арианами и православными при его сыне продолжилась и еще более усилилась. Положение усугубилось после того, как Констанций провел несколько мер, направленных против православных (Soz. Hist. Eccl., II, 6-9, IV, 20; Theod. Hist. Eccl., II, 26-27, 34; Socr. Hist. Eccl., II, 27). Тем более, что он. отличавшийся более деспотичным характером, позволял себе бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела христианской церкви, смещая и высылая неугодных епископов. Таким образом, пишет Феодорит Киррский, создалось такое положение, что «каждый христианский город оказался разделен на два противоборствующих лагеря» (Theod. Hist. Eccl., III, 4). Также среди христиан, обратившихся при Константине Великом, было много тех, кто сделал это из корыстных побуждений. Ведь смена вероисповедания открывала дорогу к легкой наживе или быстрому карьерному росту (Euseb. Hist. Eccl., X, 7). Такая неблагоприятная обстановка внутри церкви косвенно свидетельствовала, что христианство не так сильно, и что его можно сокрушить{6}. А язычество было тесно связано с самим римским государством, с его законами, бытом и культурой. Приверженцев старого культа стало меньше, но они отличались глубокой верой и горячей любовью к язычеству. Для них старые боги - олицетворение прежнего славного времени, времени, когда римляне совершили свои величайшие завоевания и победы. Кроме того, на стороне язычества оставалось и великое культурное наследие - литература, искусство, философия, и образование. Языческие школы в Эфесе, Милете, Каппадокии, Никомидии, Александрии, и особенно в Афинах, привлекали учеников со всей империи. Преподавали там софисты, посвящавшие слушателей в тайны риторики и красноречия. Даже такие известные церковные деятели, как Григорий Богослов и Василий Великий посещали афинскую школу. Особенно много последователей язычества было среди представителей интеллигенции (риторов, философов, грамматиков), и особенно сильным было влияние язычества в восточных областях империи. Таким образом, мы видим, что во второй половине IV в. междоусобные догматические споры по-прежнему сотрясали христианскую церковь, а языческая религия, потеряв свой общегосударственный статус, по-прежнему влияла на мировоззрение людей через философию, культуру и искусство. Можно сделать вывод, что в глубине общества существовали силы, ожидающие удобного случая, чтобы потеснить христианство. И, несомненно, самой подходящей кандидатурой на троне римских императоров являлся Юлиан. В 349 г., после своего 6-летнего полутюремного заключения в замке Мацеллум, Юлиан отправился в Никомидию, где познакомился с видным языческим ритором Либанием и был введен в кружок философов-неоплатоников, которые видели в нем возможного реставратора старых порядков. В 351-352 гг., находясь в Пергаме, Юлиан познакомился с учениками знаменитого неоплатоника Ямвлиха, Максимом Эдесским, Эдесием и другими. Под влиянием языческой интеллигенции Юлиан становится горячим поклонником неоплатонизма, религиозно-философской системы, созданной в III веке Плотином под влиянием учения Платона об идеях. Именно на базе неоплатонизма Юлиан создал свою религиозную систему путем эклектичного объединения старых политеистических культов.  Митра в сцене Тавроктонии  Митра  Триптолем получает семена пшеницы от Деметры и благословения от Персефоны. V ст. до н. э.  Афина Лемния В религию Юлиана вошли все боги греко-римской мифологии, а также восточные божества (Митра, Кибела, Аттис, Серапис, Изида). Верховным и любимым богом император считает солнечного бога Гелиоса, который являлся видимым образом высшего невидимого первоначала - солнца, а также был объединен с образами главных божеств языческой религии - Зевсом, Аполлоном, Сераписом, Митрой (Julian. Or. IV, 170b). Вот каким описывает Гелиоса Юлиан в своем письме к александрийцам: «Или вы одни бесчувственны к исходящим от Гелиоса лучам? Вы одни не знаете, что им все животворится и движется? Я говорю про вели-кого Гелиоса, про этот живой, наделенный умом и душой благодетельный образ умопостигаемого отца» (Julian. Ep. 55). От Гелиоса и Матери богов Реи-Кибелы произошли все боги, которых Юлиан разделяет на три класса (Julian. Or. V, 154a): 1) «высшие боги» (deoi noetoi) - умопостигаемые первопричины добра, справедливости и красоты и не имеющие отношения к материальному миру; 2) «разумные боги» (deoi noeroi) - творцы мира, или национальные боги народов, наделенные функциями посредников между верховным богом и людьми; 3) «небесные светила» (deoi aistetoi) - вечные видимые образы невидимых богов. Мир в представлении Юлиана является отражением мира идеального, а значит, он вечен, как вечное отражение вечных идей, в котором бог Гелиос своей божественной волей творит из невидимого материальное. При этом порядок мироздания, смена времен года, движение небесных светил установлены верховным божеством, чей престо - небо{7}. Человек же представляет собой соединение бессмертной души, происходящей от верховного божества и родственной ему и смертного тела. Поэтому целью земной жизни человека является стремление души воссоединиться со своим божественным источником. Стоит отметить идею Юлиана о боге-врачевателе Асклепии, который, являясь соправителем Гелиоса, был рожден в мире материальном и был призван стать целителем ран и душ людей (Julian. Or. V, 177b). Таким образом, его религия представляла собой гелиоцентрическую религиозно-философскую систему с элементами монотеизма. Возможно, ей было суждено остаться идеалом философа, однако скоро в жизни Юлиана произошли глобальные изменения. 3 ноября 361 г. в маленьком киликийском городке Мопсукрены император Констанций II скончался, не оставив прямого наследника, поэтому 11 декабря 361 г. Юлиан вступил в Константинополь в качестве правителя римской империи. Теперь Юлиан мог претворять в жизнь свои замыслы. Он уже показал себя неплохим администратором и полководцем, теперь же он, как император и властитель империи, хотел изменить верования своих подданных. Первое, что сделал Юлиан - это объявил себя приверженцем старой религии (Amm., XXII, 5). Затем он полностью изменил состав двора, удалив из дворцового аппарата многих людей, которых, возможно, считал приспешниками Констанция II и опасался их (Jul. Ep. 33, 389; Greg. Naz. Or. IV). Аммиан пишет, что император «поступил не совсем как философ, назвавший своим призванием исследование истины» (Amm. XXII, 4). С другой стороны, можно рассматривать устроенные Юлианом сокращения двора, как свидетельство аскетического и умеренного образа жизни императора. Аммиан пишет: «Прежде всего, Юлиан наложил на себя трудный обет - умеренности; он соблюдал ее так, как будто подчинялся в своей жизни законам против роскоши» (Amm., XVI, 5). Император питался простой пищей без изысков, днем без устали занимался государственными делами, а ночи посвящал чтению философских трудов и написанию собственных произведений (Amm., XVI, 5, Socr. Hist. Eccl., III, 1). Однако основную часть своего свободного времени Юлиан предпочитал проводить в служениях богам. Не имея возможности часто бывать в храмах, он превратил царский дворец в храм, воздвигнув на территории дворца жертвенники всем богам (Lib. Orat. 27) и стараясь участвовать во всех праздниках и церемониях, причем Юлиан не гнушался исполнять работу храмового прислужника (Ibid.). Теперь, когда все препятствия между ним и язычеством были устранены, Юлиан распорядился вновь открыть языческие храмы, приносить жертвы и восстановить культы богов (Amm., XXII, 5, Lib. Or. 18, 126). Точной даты издания этих указов мы не знаем, но П. Аллар упоминает о латинской надписи, найденной в Нумидии, из которой следует, что император Юлиан восстановил римскую религию (CIL, VIII, 4326){8}. Кроме того, он объявил равноправие всех религий в империи, возвратил из ссылки не только православных епископов, изгнанных Констанцием II, но и донатистов и новициан, подвергнувшихся осуждению еще в правление Константина Великого (Jul. Ep, 46, 404b, Soz. Hist. Eccl., V, 5). Английский исследователь Г. Бауэрсок уверен, что Юлиан представлял себе языческую империю, не как государство, в котором язычники свободно исповедуют свою религию, но как государство, в котором язычество является официальным культом{9}. Поэтому император издал указы о поощрении тех городов, которые проявили уважение к язычеству. Церковный историк Созомен пишет, что Юлиан «повелел поправлять заброшенные храмы, разрушенные восстановить и строить новые жертвенники богам, изобрел для них источники доходов, восстановил древние обряды, городовые празднества и жертвоприношения, удостаивал великих почестей, тайнодействователям, жрецам, иерофантам и служителям при идолах возвратил древние преимущества и подтвердил права, дарованные им прежними царями, также освободил их от должностей и других повинностей, от которых они некогда освобождены были, а храмовым попечителям отдал отнятые у них хлебные запасы... и городским общинам часто писал, что городам, обратившимся к язычеству, он позволяет просить, каких хотят даров, а к тем, которые оставались в Христианстве, имел явное отвращение и не хотел ни сам посещать их, ни допускать к себе их послов, если бы они вздумали приносить ему какие-либо жалобы» (Soz. Hist. Eccl., V, 3-4). Кроме того, император отправился в путешествие из Константинополя в Антиохию, по пути воздавая почет богам в наиболее крупных и известных святилищах, например, направляясь в Никомедию, Юлиан посетил древний храм Матери Богов в Пессинунте (Amm., XXII, 7). Однако наиболее крупным предприятием политики Юлиана по отношению к язычеству мы считаем реформу культа и жреческого сословия. Император считал, что главными причинами упадка язычества являются недостойная жизнь жрецов и их равнодушие к культу (Julian. Ep. 39), поэтому требовал прежде всего от служи-телей ревности в служении богам: «И не должно быть, чтобы посвященный жрец провел день или ночь, не принеся жертвы. Но и день - с восхода солнца, и ночь - с захода - должно начинать с принесения жертвы богам - даже тогда, когда на нас не возложе-ны жреческие обязанности. Ибо нам надлежит хранить те священные обряды, которые установлены законами предков, и делать не больше и не меньше того, что предписано» (Julian. Ep. 45). Эти особенности религиозной политики Юлиана нашли отражение в источниках, преимущественно христианских (Greg. Naz. Or. 4; Soz. Hist. Eccl., V, 16). Исследователи считают, что Юлиан стремился осуществить свою реформу путем заимствования из христианства нравственной строгости и чистоты, и надеялся вдохнуть в язычество новую жизнь и создать новую политеистическую церковь, способную конкурировать с ненавистным ему христианством{10}, причем эта точка зрения сформировалась в историографии под влиянием церковной исторической традиции. Как пишет Григорий Богослов, Юлиан «видел, что наше учение величественно и по своим догматам, и по свидетельствам, данным свыше... более величественно и славно по переданным и до сих пор сохраняемым правилам церковного благоустройства» (Greg. Naz. Or. 4) и поэтому решил преобразовать язычество по образцу христианской церкви. Источником для рассмотрения данного вопроса служат письма Юлиана, адресованные жрецу Галатии, Арзакию, жрецу Азии Феодору и письмо к неизвестному жрецу, в которых он составил подробные инструкции о том, каким он видит идеального служителя культа. Заметим, что исследователь Юлиана, французский ученый Ж. Биде называет эти послания Юлиана «энцикликами» или «пастырскими посланиями»{11}, проводя прямую параллель между языческим императором и христианским епископом. Прежде всего, считает Юлиан, надо ввести в язычестве практику благотворительности. «Ибо», - пишет он, - «безбожие возросло, прежде всего, из-за гуманности к странникам, заботы о погребении мертвых и показной жизни святых» (Ibid.). Поэтому Юлиан считает, что язычники также должны раздавать милостыню, и предписывает Арзакию, главному жрецу Галатии, чтобы из получаемых для города средств пятая часть раздавалась странникам и нищим (Ibid.). Интересно, что в качестве образца Юлиан приводит такие строки из «Одиссеи» Гомера: «Зевес к нам приво-дит нищих и странников, дар и убогий Зевесу приятен» (Hom. Od., XIV, 58). Таким образом, Гомер из классического писателя в глазах Юлиана практически превращается в религиозного писателя, подобно отцам Церкви у христиан. Он сокрушается, что, «когда бедняками пренебрегали, христиане успели заметить это, и, посвятив себя филантропии, придали силу худшему из своих дел» (Ibid, 305c). Итак, прежде всего, жрец должен быть благочестив, причем не внешне, а внутренне: он должен молиться не менее трех раз в день наедине, и чаще на людях, точно и скрупулезно исполнять все обряды, а также сторониться вредных влияний окружающего мира (Julian. Ep. 45, 300c). Поэтому жрецу нельзя посещать теат¬ры и другие увеселительные зрелища, кроме священных игр, «где женщинам запрещено не только участвовать в состязаниях, но и быть зрителями» (Julian. Ep. 45, 304d). Жрец должен придерживаться скромного образа жизни, вне храма носить простую одежду и не увлекаться походами на пиры и встречи (Ibid, 303). Жрецу следует избегать неприятных шуток и неприличных тем в разгоразговоре, причем удерживать себя не только произнесения, но и от присутствия при таком разговоре (Ibid, 300c). Юлиан считал, что жрец должен много читать, однако не все подряд. Например, произведения поэтов Архилоха, Гиппонакта, философов Эпикура и Пиррона читать было нельзя. Зато можно и даже нужно было жрецу изучать сочинения Платона Аристотеля и учеников Зенона и Хрисиппа (Ibid., 300d,301c). Юлиан оставил указания, по каким критериям нужно выбирать жрецов: неважно, бедный человек или богатый, обязательно чтобы он привел бы всех своих домашних к вере, творил милостыню (Ibid, 305b). Что касается населения города, то люди должны были уважать жреца вне зависимости от его происхождения или материального состояния, но только исходя из его благочестия и служения богам (Ibid., 296c). Таким образом, идеальный служитель культа для Юлиана - это не римский жрец, участвующий в политической и светской жизни города, и не восточный жрец, предающийся различным увеселениям, по мировоззрению и укладу жизни он больше всего напоминает христианского священника. В письме к неизвестному жрецу Юлиан оставил сообщение о том, как реформировал структуру жречества, причем эти измене-ния напоминают организацию христианской церкви. Юлиан, как верховный понтифик, назначил жрецов областей (например, Арзакий, главный жрец Галатии, Феодор, главный жрец Азии), и они, в свою очередь имели полномочия управлять всеми храмами данной области, осуществлять надзор над жрецами всех городов и принимать новых членов в жреческое сословие (Julian. Ep. 44, 453). Главные жрецы также имели власть отстранять провинившихся жрецов от должности или изгонять совсем, а также наказывать тех, кто оскорбил бы жреца во время исполнения священных обрядов (Julian. Ep. 39, 429c). Григорий Богослов и Созомен приводят в своих произведениях проекты нововведений Юлиана. Юлиан стремился упорядочить класс жрецов, а также поднять уровень их образования. Поэтому он планировал устроить учебные заведения, где преподавали бы философию и священные мифы (Greg. Naz. Or. IV). Император был начитанным человеком и без конца умножал свои знания, поэтому в его окружение могли попасть только образованные люди, вроде философов, риторов и поэтов. Юлиан считал, что интеллектуально подкованный служитель приобретет больший авторитет в глазах населения, если сможет объяснять людям непонятные места из мифов. Однако более пристального внимания заслуживает то обстоятельство, что проекты реформы языческого культа носят христианский оттенок. В частности, император собирался изменить структуру языческого служения посредством введения образцов молитв (молитвословов) и установления определенных часов для молитвы и проповедей жрецов (Soz. Hist. Eccl., V, 16). Кроме того, Созомен упоминает про так называемый обряд «исповеди» у жреца и наложение на согрешившего «епитимьи» (Ibid.), что может рассматриваться прямой калькой с христианского таинства покаяния. Сюда же относится проект императора о строительстве общин, напоминающих христианские монастыри. Созомен описывает их, как «убежища для любителей целомудрия, для дев, и обители для посвятивших себя размышлению» (Ibid.) Для странников и паломников предусмотрены были так называемые «удостоверительные и общительные грамоты» (epistulae formatae communicatoriae), для того «чтобы, откуда бы кто из странников ни пришел и к кому бы ни пристал, по этому свидетельству принимаем был, как присный и возлюбленный (Ibid.). На основании подобных свидетельств источников исследователи делают вывод о том, что Юлиан, сам того не замечая, находился под сильным влиянием христианства и во многих случаях руководствовался его идеями{12}. В историографии эта точка зрения сложилась во второй половине XIX - начале XX века, когда ученые особенно пристально рассматривали религиозные мотивы отступничества Юлиана от христианства и его религиозные реформы. Альберт де Брольи объяснял присутствие христианских элементов в мировоззрении Юлиана тем, что христианская церковь, несомненно, оказывала влияние на язычество{13}. Гастон Буассье, подчеркивая значение христианства для гибнущего античного мира, считал, что Юлиан был «близоруким политиком» и «пытался оживить труп». Лишь Артур Беньо в своем труде высказывает противоположную точку зрения относительно преобразования язычества Юлианом: император презирал христианство, как «религию невежд», а потому не мог использовать структуру христианской организации для упорядочения жреческого сословия{14}. Однако эта точка зрения не нашла поддержки среди исследователей. Юлиан надеялся, что его преобразования вызовут рост благочестия среди приверженцев старой религии. Он стремился, чтобы язычники стали ревностными в вере, подобно иудеям и галилеянам. Однако эти начинания не встретили отклика у язычников. И дело даже не в успехе христианства, как религии угадавшей духовные предпочтения эпохи. Античное общество не было готово к таким глубоким преобразованиям, а среди язычников тоже находились корыстолюбивые карьеристы, стремившиеся достичь высоких должностей. Например, историк Евнапий в своем сочинении «О жизни философов и софистов» рассказывает, каких милостей удостоились философы-неоплатоники пергамской школы, с которыми Юлиан познакомился во время своей учебы в Никомедии, после его воцарения. Так при Юлиане, ученик знаменитого неоплатоника Эдесия, Хрисанфий из Сард получил чин верховного жреца Лидии (Eunap. VS, 478), а философ Евстафий отправился в Персию в качестве посла (Ibid., 465-466). При этом ученые мужи проявляли отнюдь не величие души, свойственное философам. Например, когда Максим Эфесский, еще один знаменитый ученик Эдесия и «чудотворец», посвятивший Юлиана в языческие мистерии, прибыл из Азии в Константинополь по приглашению Юлиана, то был удостоен различных почестей со стороны импе-ратора и двора, потому как все обращались к нему за пророчествами. Евнапий пишет, что вскоре «Максим стал тяготить придворных; он перешел к ношению одежд более роскошных, чем подобает философу, и в обращении становился все более неприятным и своенравным (Eunap. VS, 476). Аммиан также подчеркивает, что Юлиан был настолько предан своим друзьям-философам, что в их присутствии вел себя неподобающим для императора образом: «он (Юлиан), когда ему сообщили, что из Азии прибыл философ Максим, выскочил, нарушая приличия, и забылся до такой степени, что быстро побежал далеко от крыльца ему навстречу, почтительно приветствовал и сам провел в собрание» (Amm., XXII, 7). Кроме Максима, приглашения ко двору удостоились также Прииск из Эллады и упомянутый выше Хрисанфий, однако оба этих философа, хотя и имели много почитателей при дворе, тем не менее, Прииск жил тихо и спокойно и по-философски относясь к дворцовым конфликтам, а Хрисанфий долго отказывался приез-жать в столицу (Eunap. VS, 477-478). Но в персидский поход с Юлианом отправились не только Максим с Прииском, но и целая толпа «бахвалившихся и исполненных гордости людей», потому что к ним благоволил император (Ibid.). Этот эпизод с приездом Максима ко двору Юлиана иллюстрирует, что император слишком идеализировал своих наставников в язычестве, пребывая в уверенности, что в каждом философе живут благородные натуры классической древности. Однако даже интеллектуалам не было чуждо материальное благо, поэтому они часто использовали свои знания для достижения земных целей. Поэтому начинания Юлиана и здесь не имели успеха. Казалось бы, Юлиана, как реставратора язычества, должна была поддержать и римская аристократия, в большинстве своем остававшаяся языческой. Однако между Юлианом и знатью не было полного согласия. Юлиан был приверженцем так называемого эллинизма, то есть греческой религии, а также преклонялся перед эллинской культурой, чем ставил себя в оппозицию римским аристократам. К тому же, чересчур простой, даже аскетичный образ жизни императора, и его увлечение греческой классикой вызывали у римлян насмешку. Экзальтированная натура Юлиана не нравилась даже его другу, историку Аммиану, который предпочитал выдержанные и царственные манеры общения императора Констанция II беспокойному поведению Юлиана. Английский ученый и исследователь творчества Аммиана, Э. Томпсон пишет, что в глазах людей позднего Рима, Юлиан беззаветно преданный греческим классикам, представал как человек гомеровской эпохи, которая, увы, больше не ассоциировалась с мужеством и доблестью{15}. Таким образом, можно отметить, что политика Юлиана по отношению к язычеству была выражена следующими мероприятиями: восстановление языческих культов в империи, открытие и строительство новых храмов, дарование финансовых и политических привилегий язычникам, реформа культа и жреческого сословия. Император стремился преобразовать язычество и с помощью дополнительных вливаний укрепить его авторитет и способствовать его процветанию. Тем не менее, этот проект на деле не встретил энтузиазма со стороны населения империи, поскольку людям уже были чужды те, пусть славные, но к тому времени устаревшие классические моральные ценности, которых придерживался Юлиан и которые хотел привить остальным. Теперь нам бы хотелось взглянуть на отношение Юлиана к его идеологическому врагу - христианству. Основной вопрос, которым задаются исследователи в процессе изучения отношений Юлиана Отступника с христианской церковью, это вопрос о политике Юлиана как новом этапе антихристианского гонения. Эта проблема сформировалась под влиянием единодушного мнения церковной традиции в лице Григория Богослова, Созомена, Сократа Схоластика, Феодорита и других. Однако стоит обратить внимание, что Юлиан не собирался заливать страну кровью христиан и тем самым способствовать популярности христианства за счет увеличения числа мучеников. Русский ученый А. Вишняков считал, что сначала император относился к христианам, как «философ, который знает, что никому нельзя навязать какие-либо убеждения»{16}. Юлиан получил христианское образование, поэтому имел хорошее представление об истории церкви в течение первых трех веков. Поэтому он сделал логичный вывод, что уничтожение христианства путем физической расправы является малоэффективным способом борьбы. Хотя французский исследователь Г. Буассье считал, что, принимая во внимание твердое убеждение Юлиана в безумии христиан, наводит на мысль, что император рассматривал гонение, как верный способ избавления от безумцев{17}. Его целью была превращение язычества в конкурента христиан, чтобы приверженцы христианства снова перешли в старую веру. Поэтому первым принципом его религиозной политики стало объявление религиозной терпимости. Вот, что он пишет в письме к Атарбию: «Клянусь богами, я не хочу, ни чтобы галилеян убивали, ни чтобы их избивали вопреки справедливости, ни чтобы они терпели какое-нибудь другое зло» (Julian. Ep. 83, 376c). Также в письме к жителям города Бостры он утверждает, что христиане должны быть больше благодарны ему, чем его предшественнику, потому что «при нем изгнанным было разрешено вернуться, и тем, у кого конфисковано имущество, предоставлена, по нашему закону, возможность получить обратно все, что им принадлежало» (Julian. Ep. 114, 436b). Более того, в самом начале своего правления Юлиан собрал в Константинополе христианских епископов и убеждал их забыть свои споры и беспрепятственно служили каждый своей религии (Amm. XXII, 5). Однако даже Аммиан, не говоря уже о христианских авторах, был уверен, что объявление веротерпимости было стремлением Юлиана возобновить междоусобные догматические споры между арианами и православными для ослабления церкви (Ibid., 1, 10). Созомен утверждает, что «царь досадовал на перевес христианства. Языческие храмы были отворены, жертвоприношения, отеческие обряды и городовые праздники, по-видимому, совершались согласно с его волею; однако же, он скорбел при мысли, что, если устранено будет его попечение, скоро все изменится» (Soz. Hist. Eccl.., V, 16). И очень скоро представился случай убедиться в истинных намерениях императора относительно христианства. 24 декабря 361 года, то есть буквально через 2 недели после воцарения Юлиана, в Александрии в ходе антихристианского погрома, учиненного населением города, был убит и сожжен епископ Каппадокийский Георгий, который, когда-то был воспитателем юного императора в Мацеллуме. Георгий, фанатичный арианин, неоднократно выступал против язычников. Когда Юлиан взошел на престол, Георгия посадили в тюрьму, откуда его и вытащила толпа для того, чтобы убить. В ответ на это преступление Юлиан пишет строгое и возмущенное, на первый взгляд, письмо к александрийцам. Но порицает он их не за убийство епископа, а за то, что они совершили справедливый суд таким жестоким и непривлекательным способом (Julian. Ep. 60, 380b). Георгий, по его мнению, заслуживал более сурового наказания, однако надо было соблюсти приличия и обратиться в суд, тем не менее, император из уважения к заслугам и прошлому великого города великодушно прощает его жителей. Таким образом, Юлиан, можно сказать, приветствовал убийство Георгия, тем более что никаких наказаний для Александрии предусмотрено не было. Зато Созомен рассказывает, что Юлиан исключил из списка городов Кесарию за то, что все ее жители были христианами и давно разрушили все языческие храмы на своей территории (Soz. Hist. Eccl., V, 4). За этот проступок кесарийцы понесли тяжелое наказание: «Все имущества и деньги церквей как в Кесарии, так и в ее округе по-велел он разыскать посредством пыток и свезти на площадь, потом триста литр золота тотчас же сдать в казну, а всех клириков внести в список областного войска, в котором служба по римскому войсковому ведомству почитались самою убыточною и низкою, христианам же простого сословия с женами их и детьми cделать перепись и наравне с поселянами обложить их податью» (Ibid.; Liban., XVI, 14). Однако Созомен вообще с большим предубеждением относился к Юлиану, считал его настоящим исчадием ада, поэтому не стоит полностью доверять его сообщениям, некоторые из которых, мы полагаем, могли быть вымышлены историком, стремившимся подчеркнуть негативный оттенок политики Юлиана. Тем не менее, стоит обратить внимание на письма Юлиана к жителям городов Бостра и Эдесса. Через семь месяцев после убийства епископа в Александрии{18}, Юлиан назначил президом Аравии, к которой относилась Бостра, ярого язычника Бэлея, который старался показать христианам, что их время закончилось. Поэтому в Бостре начались возмущения, о которых епископ Бостры Тит известил императора (Soz. Hist. Eccl., V, 15). В ответ Юлиан в своем послании к бострийцам открыто призывает языческое население города к антихристианскому погрому: «епископ Тит и его клирики обвиняют народ, будто бы они убеждали народ не восставать, а народ сам стремился к беспорядкам. Так выгоните по доброй воле вашего обвинителя, а сами, всем народом, будьте в добром согласии друг с другом» (Julian. Ep. 114, 437c). А христиане Эдессы, учинившие погром в отношении последователей уче-ния Валентина, в отличие от александрийцев, были строго наказаны: все движимое имущество эдесской церкви было отобрано и отдано солдатам, а недвижимое - конфисковано в пользу государства. На примере этих трех писем Юлиана мы видим, как эволюционировала толерантная политика Юлиана в отношении христианского населения империи. Почему Юлиан ужесточил свою политику? По-видимому, причину следует искать в мировоззрении императора, который на самом деле отличался непримиримостью ревностью в религиозных вопросах. При таких взглядах говорить о толерантности невозможно, и чиновники на местах понимали, что лучше получить мягкий выговор за притеснение христиан, чем показаться в глазах императора «неревностным» язычником. Григорий Богослов считает, что терпимость Юлиана была лишь прикрытием для нового гонения: «До времени владел он собой, держался своего злоухищренного правила и вредил нам обольщением; когда же неудержимый гнев переступил меру, тогда не в состоянии он был скрывать своей злонамеренности и восстал открытым гонением на божественный и благочестивый наш сонм» (Greg. Naz. Or. IV). Г. Бауэрсок полагает, что толерантная политика Юлиана кардинально изменилась вскоре после восшествия на престол и действовала то короткое время пока император находился в Константинополе{19}. События в Бостре и Эдессе не единственные примеры ущемления прав христиан. В Газе Юлиан отдал под суд начальника провинции, осмелившегося арестовать язычников, устроивших казнь и сожжение христиан, братьев Евсевия, Нестава и Зенона за оскорбление языческих храмов (Soz. Hist. Eccl., V, 9; Theod. Hist. Eccl., III, 7). Созомен описывает жестокую казнь дев в ливанском Гелиополе и мученичество епископа Марка из сирийского города Аретуза (Soz. Hist. Eccl., V, 10,; Theod. Hist. Eccl., III, 10). Престарелого епископа подвергли мучительной казни за то, что он в царствование Констанция II разрушил один из знаменитых языческих храмов на территории Аретузы. И опять никакого наказания за эти самовольные убийства не последовало. Со слов Григория Богослова, Марк Аретузский был одним из двух христианских священников, которые спасли малолетних Галла и Юлиана от смерти в ночь, когда солдаты убили их родных (Greg. Naz. Or., IV). Однако эта легенда не имеет подтверждения в других источниках и считается выдумкой церковной традиции для большего порицания императора-отступника. Юлиан, по свидетельству Созомена, позволял себе и насмешки над христианскими святынями: «Узнав, что в Кесарии филипповой, городе финикийском, называемом Панеадою, есть знаменитое изображение Христа, воздвигнутое избавившеюся от болезни кровоточивою, Юлиан снял его и на то место поставил изображение самого себя. Но упавший с неба бурный огонь сокрушил грудь статуи, а голову с шеею низверг, и так как сокрушена была грудь, бросил ее ниц на землю. С того времени статуя Юлиана и доныне остается в этом виде, то есть, вся покрыта черными следами громового удара. А изображение Христа язычники влачили тогда по городу и сокрушили» (Soz. Hist. Eccl., V, 21). Таким образом, Юлиан, проливавший слезы при виде пребывающих в запустении храмов в Никомедии (Amm., XXII, 9), продемонстрировал главную причину неприязни к христианству: он просто не считал Христа богом. А поскольку он верил, что император на земле выше любого человека, логично, что этим жестом он ставил под сомнение основательность христианства. Помимо этого, Юлиан попытался восстановить храм Аполлона Дафнийского в Антиохии. Так как миф об отношениях Аполлона и нимфы Дафны носил весьма фривольный характер, храм был разрушен, а над ним была построена церковь мученика Вавилы. Однако оракул в восстановленном святилище молчал, и император решил, что этому мешают мощи мученика, и отдал приказ, чтобы гробницу Вавилы удалили. Но новый храм простоял недолго: по недосмотру служителей в следующую же ночь храм Аполлона сгорел (Soz. Hist. Eccl., V, 19). При этом провинившиеся, то есть запятнавшие себя разрушением храмов, города могли вновь заслужить хорошее расположение императора. Положительным основанием для помилования Юлиан считал присутствие в этих городах богов. Например, фригийскому городу Пессинунту, на территории богов располагался крупный храм Матери богов, Юлиан был готов помочь, если «только жители вернут себе расположение богов» (Julian. Ep. 84, 432). Милость императора обычно выражалась в щедрых поставках продуктов для города и других поощрений: Антиохии Юлиан простил долги (Julian. Misop., 367d), раздал 300 участков земли (Ibid., 370d), прислал для жителей из Халкиды, Гиераполиса и других городов «400 тысяч мер хлеба, потом 12 тысяч из собственных запасов» (Ibid., 369b, c). Города же, где была сильна христианская церковь, помимо неприкрытого равнодушия и потворства антихристианским погромам страдали от финансового гнета, наложенного Юлианом. Чтобы восстанавливать разрушенные храмы, заниматься филантропией, оплачивать многочисленные пышные церемонии и ритуалы, требовались средства. Поэтому вскоре христиане были обложены дополнительными налоговыми податями, лишены всех привилегий и иммунитетов, дарованных церкви в правление Константина Великого и Констанция II (Julian. Ep. 54, 380d), имущество языческих храмов, конфискованное в пользу христианской церкви, с особой строгостью изымалось в пользу язычества (Julian. Ep., 80, 385c). В Кодексе Феодосия содержится эдикт Юлиана от 13 марта 362 г., в котором сказано, что «декурионы, которые как христиане уклонялись от выполнения своих обязанностей, возвращаются на свои места» (CTh., XIII, I, 50). Здесь мы должны коснуться одного важного вопроса во взаимоотношениях Юлиана с христианами - вопроса о службе в армии христиан. Отметим, что если галльские легионы за время походов Юлиана против франков и аламаннов, были преданы императору, то восточные легионы уже привыкли к христианскому Лабаруму{20}. Поэтому император шел на хитрость и старался сыграть на человеческой жадности. В дни больших праздников войско получало от императора подарки. Так вот, Юлиан требовал, чтобы солдат, принимая подарок, обязательно бросал в огонь жертвенника щепотку фимиама - таким образом солдаты приносили языческие жертвы (Soz. Hist. Eccl., V, 17). Далее историк пишет, что солдаты, осознав, что отступили от веры, попытались вернуть подарки императору, или в противном случае лишить их жизни за отступничество. Однако Юлиан, опасаясь, что казнь приведет к появлению новых христианских мучеников и новой волне популярности христианства, попросту изгнал их из дворца (Ibid.). Драматичность и пафос развязки наводит на мысль, что историк самостоятельно додумал историю для того, чтобы заинтересовать читателей. Таким образом, можно предположить, что толерантная политика Юлиана носила характер скрытого антихристианского гонения. Подобные настроения император проявлял и в своих отношениях с видными представителями клира. Как мы уже говорили выше, Юлиан в начале своего правления вернул из ссылки опальных православных епископов, в том числе, Афанасия Великого. Можно рассматривать это решение, как проявление веротерпимости по отношению к видным представителям церкви, и тогда притеснение рядовых христиан будет носить характер обычной борьбы государства с выступлениями низшего класса. Однако после возвращения тот же Афанасий был вновь отправлен в изгнание. Как пишет сам Юлиан, он позволил сосланным при Констанции христианам вернуться при условии, что они не потребуют себе своих прежних кафедр. Однако Афанасий тут же направился в Александрию и занял свой пост, чем крайне возмутил Юлиана (Julian. Ep. 110, 399). Епископ сразу же начал сплачивать вокруг себя православных (Socr. Hist. Eccl., III, 7; Soz. Hist. Eccl., V, 12; Ruf. Hist. Eccl., I, 18). Поводом к изгнанию послужил, по словам Сократа, донос языческого населения Александрии (Socr. Hist. Eccl., III, 13). Юлиан чувствовал в этом несгибаемом борце за никейскую веру упорного противника, поэтому называет Афанасия «средоточием всех пороков галилеян» (Julian. Ep., 111, 435b). Поэтому, узнав, что епископ не покинул город, Юлиан, опасаясь влияния Афанасия на александрийцев, призывает население города верить не в Иисуса, а в богов и требует от Афанасия покинуть Египет (Ibid., 435d). Однако префект Египта Экдикий, боясь выступлений александрийцев, не решился предпринимать никаких мер против епископа, и Афанасий покинул город только после личного письма Юлиана к Экдикию (Julian. Ep. 112, 434c). В этом письме для нас важно, что более всего император был возмущен тем, что Афанасий осмелился окрестить нескольких знатных женщин (Ibid.). То есть повторное изгнание Афанасия было вызвано не столько тем обстоятельством, что епископ пренебрег императорским приказом, сколько деятельностью Афанасия, как представителя клира. Так как эти события происходят уже в феврале 362 г., этот эпизод может рассматриваться как важное свидетельство быстрого изменения толерантной политики Юлиана. Другими епископами, подвергнувшимися гонениям, можно считать епископа Бостры Тита, так как Юлиан напрямую подстрекал языческую часть населения Бостры изгнать Тита из города (Julian. Ep., 114, 438). История о мученичестве Марка епископа Аретузского не находит подтверждения в письмах Юлиана, а упоминается лишь в косвенных источниках (Soz. Hist. Eccl., V, 10). К тому же, мы считаем, что Марк удалился от активного участия в делах церкви по причине преклонного возраста, поэтому в отношениях Юлиана с клиром значительной роли не играл. Созомен приводит историю о Элевсии, епископе Кизика, которому «было запрещено жить в городе, за то, что он разрушал храмы и осквернял священные рощи» (Soz. HIST. ECCL., V, 15). Таким образом, на примере Афанасия и Тита, можно констатировать, что представители церкви подвергались притеснениям, главным образом, за свою прямую деятельность, что можно считать антихристианской мерой императора. Самым известным антихристианским законом Юлиана исследователи признают эдикт от 17 июня 362 г., когда император запретил христианским учителям и риторам преподавать в школах (CTh., XIII, 3, 5). До нас дошел текст этого эдикта, приведенный самим Юлианом в одном из его писем. В кодексе Феодосия нет упоминания о том, что запрещено преподавать именно христианам: там говорится о том, что учителя и наставники должны отличаться нравами и красноречием, поэтому кандидаты в преподаватели должны одобряться или императором, или в его отсутствие - сословием куриалов. Письмо Юлиан содержит более расширенное и пространное рассуждение императора о том, как важно и ответственно быть учителем (Julian. Ep., 61c, 422b). Подчеркивается, что преподаватели должны быть нравственными людьми и уметь публично излагать свои мысли, а значит, среди преподавателей Юлиан хотел бы видеть философов, риторов и грамматиков, то есть образованную интеллигенцию, которая придерживалась языческих взглядов. Таким образом, в письме Юлиан пишет, какие люди должны становиться преподавателями, а в свод законов вошла практическая часть закона о том, каким образом должны назначаться учителя. Христианская традиция придерживалась мнения, что отступник Юлиан запретил преподавать христианам, боясь популярности ненавистного ему учения (Socr. Hist. Eccl., III, 12; Theod. Hist. Eccl., III, 8; Greg. Naz. Or., IV, V). Конечно, можно ожидать такой реакции от церковных историков, принимая во внимание их отношение к Юлиану, однако Аммиан, язычник и самый объективный из историков, оставивших свидетельства о Юлиане, солидарен с мнением христианских источников. Он пишет, что «жестокой и достойной вечного забвения мерой было то, что он запретил учительскую деятельность риторам и грамматикам христианского вероисповедания» ( Amm., XXII, 11). Единственным антихристианским акцентом этого эдикта является то обстоятельство, что все учебные заведения становились по большей части языческими, поэтому можно было ожидать, что отпрыскам христианских семей доступ к образованию был закрыт, ведь родители вряд ли бы захотели подвергать своих детей опасности языческого учения. Тем не менее, некоторые видные христианские учителя, например, Проэресий из Афин, демонстративно отказались от своих постов (Eunap. VS., 493). Мы считаем вполне ожидаемым появление подобного закона у Юлиана, принимая во внимание обстоятельства его юности. Его христианские учителя были малообразованны, заняты карьерой и не заинтересованы в развитии своего ученика, а языческие на-ставники проявляли искреннюю заботу и участие в судьбе юного принца. Кроме того, христианство еще уступало по уровню образования язычеству: вспомним, что такие известные деятели церкви, как Григорий Богослов и Василий Великий обучались в афинской языческой школе. Наконец, последним примечательным эпизодом религиозной политики Юлиана является установление отношений императора и иудеев (Soz., Hist. Eccl., V, 18, 22; Socr., Hist. Eccl.., III, 12; Theod., Hist. Eccl., III, 8; Rufin., Hist. Eccl., I, 32; Euseb. Chronic., Oros., VII, 30). Юлиан считал, что все народы на земле сотворены одним верховным богом солнца. Поэтому в разных странах Гелиос получил разные имена: Митра, Серапис, Зевс и т. п. Иудейский бог Яхве у Юлиана - это национальный верховный бог иудеев: о нем император пишет так: «те, кто предан иудейской религии почитают бога, который воистину всемогущ и благ, и управляет чувственным миром, которому, как я прекрасно знаю, и мы поклоняемся, но под другими именами.» (Julian. Ep. 44, 454). Поэтому можно предположить, что благосклонность Юлиана к иудеям могла быть основана не только на стремлении императора нанести вред ненавистному им христианству, но и на уважении Юлиана к религии, которую он считал похожей на свою веру. В уже упоминавшемся письме к Атарбию, он пишет, что галилеянам нужно предпочитать людей богобоязненных и почитать богов, и людей, и города, которые их чтят (Julian. Ibid., 376d). И далее, в письме к Феодору, Юлиан приводит в пример благочестие иудеев: «Ибо я видел, что те, кто предан иудейской религии, столь пламенны в своей вере, что предпочтут умереть, чем отречься от нее.» (Julian. Ep. 44, 453d). Так в трактате «Против галилеян» Юлиан порицает христиан за пренебрежение отеческими законами: «Клянусь богами, я - один из тех, кто не собирается исполнять вместе с иудеями их церемонии, но я всегда почитаю бога Авраама, Исаака и Якова, которые, будучи халдеями, принадлежа к роду священников и богослужителей, научились обрезанию, когда жили среди египтян, и стали поклоняться богу, который, будучи превеликим и могучим, был благосклонен ко мне и к тем, кто чтит его, как Авраам, но на вас не взирает»{21}. Мы считаем, что Юлиан вполне мог считать, что иудеи близки ему по взглядам, и уважал их за ревность в вере. Самым грандиозным предприятием Юлиана по отношению к иудеям стало восстановление иерусалимского храма (Julian. Ep. 25, 63). Грандиозный храм Иерусалима лежал в руинах со времени правления императора Веспасиана.По свидетельству Созомена, Юлиан собрал иудейских вождей и «убеждал их помнить законы Моисея» и приносить жертвы. Когда те ответили, что их главный храм разрушен, а по закону они не имеют права приносить жертвы в другом месте, император приказал тотчас выдать из казны деньги и начать строительство (Soz. Hist. Eccl., V, 22). Христианские историки пребывали в уверенности, что Юлиан делал все это, только для того, чтобы опровергнуть пророчество Христа о разрушении и вечном запустении святого города (Mt., 24:12; Mr., 13:2; Lc., 21:6; Greg. Naz. Or. V, 3-7; Socr. Hist. Eccl., III, 20, 22; Theod. Hist. Eccl., III, 20) и ослабить христианство, оказывая поддержку его противнику - иудаизму{22}. В марте 363 г. началась очистка территории под новый фундамент. Но строительство с самого начала сопровождалось зловещими знамениями, поэтому, когда подготовленный под фундамент участок земли оказался полностью разрушен сильным землетрясением, строители в ужасе оставили свою работу: «Но как скоро раскопали они остатки прежнего здания и очистили грунт, в ту самую минуту, когда надлежало положить первое основание, вдруг произошло, говорят, великое землетрясение. От этого сотрясения земли, из глубины ее начали вылетать камни, и Иудеи гибли. После сего произошло и другое явление, очевиднее и чудеснее первого. Вдруг на платье всех сам собою отпечатлелся знак креста, и все одежды разукрасились как бы звездами, так что были сделаны будто из искусно вышитых тканей. Чрез это для одних тотчас стало понятно, что Христос есть Бог и что возобновление храма Ему не угодно, а другие присоединились к Церкви по прошествии немногого времени и, приняв крещение, за свою дерзость умилостивляли Христа песнопениями и молитвословиями. Кому это кажется невероятным, того пусть уверят люди, слышавшие от самовидцев и еще живущие, пусть уверят Иудеи и язычники, оставившие свою работу не оконченною, или которой, лучше сказать, они и начать не могли» (Soz. Hist. Eccl., V, 22). И этот проект Юлиана потерпел неудачу в самом начале. Таким образом, мы видим, что политика Юлиана на протяжении довольно короткого времени становится все более жесткой. Юлиан был неглупым человеком, и даже его фанатичная религиозность не помешала ему увидеть, что христианская церковь сильна настолько, что даже междоусобицы уже не наносят ей существенного вреда, а язычество с трудом облекается в новые организационные формы. Поэтому император поступает, как веками поступали его царственные предки - он применяет свою силу и власть, чтобы не допустить дальнейшего усиления противника. И хотя христианская традиция старалась представить Юлиана сумасшедшим и одержимым язычником, действующим по приказу дьявола, политика Юлиана представляет собой грамотную систему мер, которая могла бы иметь успех и повлечь за собой значительные изменения.  Illustration from the "The Fall of Princes" by Giovanni Boccaccio, depicting the skin of Roman Emperor Flavius Claudius Julianus  Coptic Icon depicting Saint Mercurius killing Roman Emperor Flavius Claudius Julianus Примечания 1. См.: Arnold G. Unpartheiische Kirchen und Kaiser-Historien. Francf.-am- M., 1688-1700; Schrock J. M. Christlische Kirchengeschichte. Sechster Theil. 2 Aufl. Leipz., 1784; Neander A. Der Kaiser Julian und sen Zeitalter. Leipz., 1813; Beugnot A. Histoire de la destruction du paganisme en Occident. P., 1835; Strauss F. Der Romantiker auf dem Throne der Caesaren. Manheim, 1847. 2. Rhode F. Geschischte der Reaction Kaiser Julian gegen chrislische Kirche. Jena, 1877. 3. Cm.: Mucke J. F. A. Flavius Claudius Julianus nach den Quellen. Gotha, 1867-1869; Koch W.Kaiser Julian der Abtrunnige. Leipz., 1900; Allard P. Julien l’Apostat. V. I-III. P, 1900-1903, Negri G. L’imperatore Guiliano l’Apostata. Milano, 1902. 4. Chastel E. Histoire de la destruction du paganisme dans l’Empire d’Orient. P., 1850. P. 54. 5. Алфионов Я. Император Юлиан и его отношение к христианству. Казань, 1877. С. 57. 6. Там же. С. 38. 7. Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990. С. 400. 8. Allard P. Julien l’Apostate. P., 1900. P. 194-196. 9. Bowersock G. W. Julian the Apostate. Cambridge (Mass.), 1978. P. 71. 10. Алфионов Я. Император Юлиан и его отношение к христианству. Казань, 1877. С. 189; Negri G. Julian the Apostate. L., 1905. P. 172. 11. Bidez J. La vie de empereur Julien. P, 1930. P 266. 12. Алфионов Я. Император Юлиан и его отношение к христианству.; Аллар П. Христианство и римская империя от Нерона до Феодосия. СПб, 1898. С. 202. 13. Albert de Broglie M. l’Eglise et l’Empire Romaine au IV siecle. P., 1866. 14. Beugnot A. Histoire de la destruction du paganisme en occident. P., 1835. 15. Thompson E. A. The Historical Work of Ammianus Marcellinus. Oxf., 1947. P. 58. 16. Вишняков А. Император Юлиан Отсупник и литературная полемика с ним св. Кирилла Александрийского в связи с предшествующей историей литературной борьбы между христианами и язычниками. Симбирск, 1908. С. 118. 17. Boissier G. La fin du paganisme. P., 1894. P. 27. 18. Письмо было издано в Антиохии в августовские календы. 19. Bowersock G. W. Julian the Apostate. P. 83. 20. Алфионов Я. Император Юлиан и его отношение к христианству. С. 142. 21. Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. С. 423 . 22. Bowersock G. W. Julian the Apostate. P. 88. Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Выпуск 9. Санкт-Петербург, 2010, С. 363-386. |
| В избранное | ||

