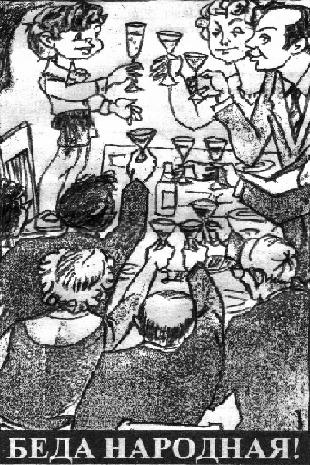| ← Май 2011 → | ||||||
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
13
|
14
|
15
|
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
|
30
|
31
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Открыта:
03-05-2008
Адрес
автора: culture.people.znanieistiny-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Знание Истины - основа Народовластия: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Знание Истины - основа Народовластия: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА Выпуск No: 94 от 2011-05-25 11:35
Выдержки из книги Александра Олейникова «Политическая экономия национального хозяйства» … Понятие «современное общество», ставшее синонимом западного общества, возникло в Западной Европе в период распространения по всему миру современной «индустриальной» цивилизации. Современное общество Запада возникает на основе разрыва со всеми предшествующими традициями и всей предшествующей историей. Традиционные отношения между людьми, именуемые человеческими, заменяются рыночными отношениями, философия общей судьбы – философией контракта, любовь – сексом, совесть – выгодой, долг, воспринимавшийся ранее исключительно как элемент человеческих отношений, – векселем как долговым финансовым обязательством и пр. … Однако подлинные творцы «современного общества» – не ученые, а пираты, корсары и их королевские покровители, ставшие в Англии первыми капиталистами – «корсар-капиталистами» (К. Шмитт), работорговцы, контрабандисты, колонизаторы и прочие антигерои, создавшие богатство всего современного общества, но не как общественное богатство, а как свое –– частное богатство. … Культура здесь имеет прикладной характер. Она рассматривается как чисто внешний элемент, структурно не связанный с обществом и экономикой. И это не случайно. Исключив Человека как носителя традиций и морально-этических ценностей (культуры) из общественного анализа и оставив только его тело, рассматривая людей лишь как юридических субъектов – владельцев тела, как людей-«атомов», западная либеральная экономическая наука выбросила также и Культуру, создаваемую людьми. Но не всю. Она оставила лишь материальные объекты культуры, выбросив культуру духовную, превратила культуру в предмет потребления. … Общество как духовное единство никогда не вмещается в миг настоящего, в сегодняшний день; оно есть только тогда, когда в нем в каждое мгновение живет все его прошлое; его «сегодня» есть только связь между его «вчера» и «завтра». Только если в детях живет душа и воля отцов, они имеют жизнь, чтобы передать ее внукам. Во всякое мгновение в обществе действуют законы и обычаи, установленные давно умершими людьми и выражающие их волю и веру, обращаются материальные и духовные капиталы, накопленные трудом прошлых поколений. Попытка оторваться от этого прошлого, заново из ничего создать свою собственную жизнь, «учредить» новое общество есть безумие нечестия, которое равносильно самоубиению и не кончается смертью, только если силы прошлого после краткого паралича вновь пропитывают собою жизнь; эта попытка равносильна попытке вылить из человека всю кровь, накопленную прошлым питанием, и влить в него совершенно новую, им самим только что приготовленную кровь». … Рыночная модель основана на мошенничестве, и это подтверждается состоянием рынка продуктов питания в России: она импортирует более 40% общего объема внутреннего потребления продовольствия, а в Москве и Санкт-Петербурге доля импорта составляет более 70%. При этом критерий денежной эффективности требует завозить самое дешевое мясо, а значит – самое худшее (см. таможенную статистику забракованного мяса. Россельхознадзор ввел с 15 июля 2008 г. временные ограничения на импорт мясной продукции с ряда предприятий Дании, Франции, Германии, Италии и Испании. С 21 июля ограничения вводятся на поставки с предприятий Австралии, Аргентины и Бразилии. Введение ограничительных мер вызвано выявлением запрещенных и вредных веществ в мясе с предприятий этих стран. По данным Россельхознадзора, в настоящее время 111 иностранным фирмам запрещено поставлять в Россию свою мясную продукцию. Представители отечественных мясокомбинатов утверждают, что импортное мясо нельзя называть свежим. В лучшем случае «мороженому» импорту стукнуло 3–5 лет. … Доктор экономических наук О. А. Платонов в книге «Экономика Русской цивилизации» рассматривает две основные модели хозяйствования, существующие в современном мире: западную (индивидуалистическую) и традиционную (общинную). Западная основана на жесткой конкуренции, индивидуализме и эгоизме в проявлении жизненных интересов («каждый сам за себя»), отлаженной иерархо-бюрократической организации, необходимой в условиях острой конкурентной борьбы. Эффективный и качественный труд мотивировался в ней преимущественно материальными интересами. Возникла она в густонаселенных странах в условиях крайнего дефицита экономических ресурсов, но как самобытный тип определилась лишь с эпохи открытия Америки и колониальных захватов. Первоначальное экономическое накопление в рамках этой системы было осуществлено за счет колониального ограбления целых народов, безжалостной работорговли и бесплатного или почти бесплатного использования ресурсов захваченных территорий*. На иных началах строились хозяйственные механизмы таких стран, как Япония, Китай, Корея, Тайвань, сохранивших национальные традиции и обычаи многовековой общинной жизни и рассматривающие общество не как простую сумму отдельных людей, а как нечто большее, как целое, которое имеет особые потребности, выходящие за пределы экономических потребностей его членов. Согласно такой общинной (коммунитарной) модели экономики полная отдача трудового потенциала каждого отдельного человека зависит от его места в общности, от степени участия в социальном процессе. Если общность – заводская, территориальная или государственная – хорошо «устроена» и соответствует национальным традициям, ее члены будут обладать сильным чувством тождественности с нею и смогут полностью использовать свои человеческие возможности. Если общность «устроена» плохо, народ будет испытывать отчуждение, рухнут его надежды, а экономика окажется в кризисном состоянии. В отличие от экономики развитых стран, где господствовал эгоистический индивидуализм, в общинной модели предпочтение отдавалось коллективизму, обеспечению органичной естественности связи и взаимозависимости между работниками, поддержанию духа общности и ответственности перед коллективом*. К общинному типу экономики принадлежала и Россия … Наличие двух моделей капитализма косвенно указывает, что социокультурные ценности и соответствующая организационная философия (ценности и цели фирмы, организационные принципы, стиль и методы управления) являются первичными, определяющими в развитии социально-экономической системы общества. А сам капитализм как способ производства является закономерным продуктом той социокультурной системы, в рамках которой он возник и сформировался. Универсальной модели капитализма в природе не существует. … Принципиально важно понимать наличие не просто существенных, но и принципиальных различий в оценке экономических категорий и законов. Существуют два противоположных подхода к оценке экономических явлений и процессов: частнохозяйственный и народнохозяйственный. В их основе лежат два противоположных образа жизнедеятельности, имеющих соответствующие системы жизненных ценностей. 1) Частнохозяйственный подход основан на субъективной оценке экономических проблем и категорий. В его основе лежит стремление частнохозяйствующего «Я» к увеличению собственности, обладанию вещами, потреблению. При таком подходе в качестве исходного пункта анализа берется «хозяйствующий субъект», провозглашающий свою независимость от окружающего его хозяйственного мира (предприниматели, государство и общество в целом), воспринимая этот мир сквозь призму полезности для себя, характеризуя всех остальных как препятствие или ограничение для своей деятельности, т. е. как враждебных себе. Частнохозяйственный подход устанавливает не объективные законы, а лишь свое частнохозяйственное отношение к внешнему миру, опираясь при хозяйственном выборе исключительно на частные критерии полезности и доходности с точки зрения частного лица. Стоимость здесь заменяется субъективной ценностью, а величина цены – предельными величинами полезности данного товара / услуги для эгоцентричного хозяйствующего «я»… Как известно, именно эта позиция утвердилась в западной экономической теории, породив субъективизм, позитивизм и маржинализм в качестве ее различных направлений. Позитивизм. Одним из главных принципов позитивистской методологии стал феноменализм, в соответствии с которым задача науки сводится к собиранию и описанию фактов, т. е. явлений жизни. Объяснение жизни и поиски ее смысла позитивизм объявляет сугубо частным делом каждого индивидуализированного разума, возвышающего свое эгоистическое «Я» над обществом и над Богом. ... Истина, таким образом, приватизируется, превращаясь в частное дело каждого «Я». Безбрежный плюрализм мнений и теорий возвращает общество в эпоху абсолютного мракобесия. Поражает то, с какой легкостью наши общественные науки в 90-х годах стали переходить на методологию позитивизма, и многие ученые стали объявлять себя позитивистами и сторонниками маржинализма! 2) Народнохозяйственный подход – здесь отношения между хозяйствующими субъектами и обществом определяются философией общей судьбы, сплоченностью людей восточного (традиционного) общества вокруг национальных ценностей и традиций, их готовностью пожертвовать частью своего «я» ради сохранения непрерывности и единства истории своей Родины. Все это и превращает принципы единства, общности и коллективизма в движущую силу национально-экономического развития. Соответственно, в рамках этого подхода меняется содержание экономических категорий: например, капитал здесь выступает уже как движущая сила общенационального развития; деньги – как финансовая «кровеносная система» страны; рынок – как общенациональный рынок, емкость которого определяется не столько покупательным спросом населения, сколько реальным спросом со стороны общества на товары и услуги, имеющие социальную значимость; а стоимость перестает быть чисто экономической категорией, превращаясь в институциональный механизм, с помощью которого рассчитывается стоимость совокупного общественного продукта страны и его составных частей, включая стоимость воспроизводства рабочей силы… Для примера рассмотрим понятие «рациональность». 1) рациональность общественного хозяйствования нацелена не на извлечение личной выгоды, а на рационализацию всего народнохозяйственного производства, направляемого на увеличение объема общественных благ, на рост народного благосостояния. 2) рациональность частного хозяйствования представлена как неукоснительное следование индивидом принципу максимизации личной выгоды. Такой тип рыночной рациональности имеет ярко выраженный антиобщественный характер. … Горбачевская перестройка началась с призывов «стать нормальной страной», начать жить так, как живут «все нормальные люди в нормальных странах»(?!) Эти лозунги создавали впечатление, что, дескать, СССР и Россия в целом отстали в своем социальном развитии от передовых стран Запада, что нам необходимо выбираться из «исторического тупика» и возвращаться в лоно «нормальных стран». Однако в действительности ненормальным, больным является западный тип общества… Книга Эриха Фромма «Здоровое общество» (1955) начинается с вопроса, вынесенного в заголовок первой главы: Нормальны ли мы? Он пишет, начиная главу: «Нет более расхожей мысли, чем та, что мы, обитатели западного мира XX века, совершенно нормальны». Фромм является последователем Зигмунда Фрейда (1856–1939), который считал, что культура и цивилизация Запада по мере своего развития все больше противоречат нуждам человека… Фромм как раз и отважился на подобное исследование, в основу которого, подчеркивает он, положена следующая идея: «Здоровым является общество, соответствующее потребностям человека, – не обязательно тому, что ему кажется его потребностями, ибо даже наиболее патологические цели субъективно могут восприниматься как самые желанные; но тому, что объективно является его потребностями, которые можно определить в процессе изучения человека». Нормальным и здоровым является, по его мнению, только то общество, в котором «каждый работающий индивид был бы ее активным и ответственным участником, где работа была бы привлекательной и осмысленной, где не капитал бы нанимал труд, а труд – капитал»… Говоря о болезненных проявлениях потребительского общества, Э. Фромм констатирует, что речь идет о «патологии нормальности», т. е. о патологии, возведенной обществом в ранг всеобщей нормы. Он подчеркивает: «Мы живем в такой экономической системе, где слишком высокий урожай зачастую оказывается экономическим бедствием, – и мы ограничиваем продуктивность сельского хозяйства в целях «стабилизации рынка», хотя миллионы людей остро нуждаются в тех самых продуктах, производство которых мы ограничиваем… С некоторой тревогой думают экономисты о том времени, когда мы перестанем производить вооружение; мысль же о том, что вместо производства оружия государству надлежит строить дома и выпускать необходимые и полезные вещи, тотчас влечет за собой обвинение в посягательстве на свободу частного предпринимательства»*. Такое общество, безусловно, является больным, ненормальным. … Современность западного общества заключается в том, что оно решительно рвет со своим прошлым, отрываясь от национальных корней. Его развитие опирается не на традиции, не на опыт предков, не на знания, содержащиеся в этнической истории. Здесь утверждается господство чисто денежных ценностей, ставящих общество с ног на голову: экономика как низшая, т. е. служебная сфера общества, становится высшей, господствующей… Дух денежного хозяйства действует на общество, как отравляющий нервно-паралитический газ: проникая во все поры общественного организма, он подавляет мораль, парализует совесть и убивает душу. … Швейцарский ученый Артур РИХ (1910–1992), автор известной работы «Хозяйственная этика», указывает: «Структура хозяйства не может определяться исключительно фундаментальной целью экономики. Система хозяйствования должна быть для человека не только средством выживания, она должна создать предпосылки для существования, достойного человека. Это значит, что в процессе труда и получения дохода человек приобретает определенный общественный статус – статус личности, участвующей в общем процессе труда, определяющей этот процесс и несущей долю общей ответственности за него, а не просто рабочей силы, применяемой, используемой и соответственно оплачиваемой, как требуют того интересы экономической прибыли»*. У экономики нет, говоря словами ученого экономиста В. А. Йора, «никаких собственных целей», поскольку «ее функция – чисто служебная», несмотря на то, что «она представляет собой совершенно автономную сферу». Цель экономики нельзя установить в отрыве от человека, а вопрос о смысле экономики невозможно вывести из фактического бытия самой экономики, как это пытается сделать концепция классического экономизма. «Экономика – не самостоятельная система, подобно природному миру, а институт, созданный человеком для человека. Ее цель не определяется ею самой, как считают представители экономизма. Выявить ее суть можно, лишь ориентируясь на человека и его основные потребности. В той мере, в какой экономика служит удовлетворению этих потребностей и таким образом оказывается человечной, она имеет для человека смысл. Если же она не служит удовлетворению потребностей человека, т. е. не достигает своей цели, она становится бессмысленной, абсурдной, несмотря на растущие прибыли и достижение ею вершин рациональности». … Догмы Смита об «экономическом человеке» и о независимости экономики от морали и от государства быстро отбросили Россию и все постсоветские республики в 1990-е годы назад в XVIII век. Народное богатство, точно так же, как и во времена Смита, превратилось в буржуазное богатство, общественная собственность – в буржуазную собственность, доходы рабочих – в нищенскую зарплату, а сами рабочие – в «расу рабочих». …, а возмущения рабочих и их организованные протесты вполне могут рассматриваться как призыв к насилию и караться как уголовное преступление согласно пресловутому антинародному законодательству и, в частности, «Закону об экстремизме» (так же как и в Англии в 20-х годах XIX в.). Богатое народное государство превратилось в нищую «контору», которая управляет делами олигархов, защищая их собственность. Экономика вновь «очистилась» от нравственности и от моральных оценок. Экономика вновь стала безнравственной, а мораль – аморальной. Все снова – как и во времена Смита. Кровавая история западного капитализма превратилась в жуткую повседневность наших городов. … В тайной войне Англии за мировое господство, начавшейся во второй половине XVI в., … она использует традиционные для Запада средства – грабеж, разбой и убийства. Новая эпоха от кровавой эпохи крестоносцев отличается по сути лишь тем, что разбойников пересаживают с коней на морские суда, благословляют на разбой королевской властью и посылают грабить к берегам Испании и ее американских колоний. Именно английские морские разбойники нанесли первые удары по гегемонии Испании во всем мире, подрывая ее монополию на мировую торговлю. Речь идет о пиратах и корсарах. Корсар – капитан частного каперского судна, которое занималось захватом и грабежом коммерческих судов, принадлежащих противоположной воюющей стороне, либо судов нейтральных стран, занимающихся перевозкой грузов в пользу воюющей страны. Разница между пиратом и корсаром была, прежде всего, в том, что пират грабил под черным флагом, а корсар это делал на основании документов, предъявляя при захвате судна каперское свидетельство или каперское письмо своего короля, которые подтверждали авторитетом королевской власти, что корсар имеет права и полномочия на каперство, т. е. захват и грабеж коммерческих судов одной воюющей стороны в пользу другой… Но с другой стороны, пираты получали помилование и дворянские титулы, если совершали успешные пиратские набеги, отвозя затем награбленное добро своему королю или королеве. «Вешали ли в Англии пирата на рее или награждали дворянским титулом – зависело главным образом от того, делился ли он своей добычей с ненасытным королем», – подчеркивал известный американский политик и историк Уильям З. Фостер. Королевская власть одинаково чествовала их как национальных героев, воодушевляя на новые пиратские набеги, если при этом росло богатство королевского двора, росла мощь британской империи. Такова судьба известных пиратов – отъявленных морских разбойников, затем помилованных королевской властью, возведенных в рыцарские достоинства и награжденных дворянскими титулами. Пират Дрейк, получив титул, стал именоваться сэр Фрэнсис Дрейк*, пират Рэлли – сэр Уолтер Рэлли, а пират Морган – сэр Генри Морган, основатель одной из крупнейших в мире финансовых империй. Подсчитано, что только за период царствования королевы Елизаветы английские пираты принесли своей стране доход в 12 миллионов фунтов стерлингов – огромная сумма по тем временам*. К. ШмиттØ пишет о времени правления королевы Елизаветы: «Королева Елизавета вполне заслуженно считается великой основательницей английского морского господства… За 45 лет ее правления (1558–1603) Англия стала богатой страной, какой прежде не являлась. Раньше англичане занимались скотоводством и продавали во Фландрию шерсть; теперь же со всех морей к английским островам устремились сказочные трофеи английских пиратов и корсаров. Королева радовалась этим сокровищам – они пополняли ее богатства. В этом отношении все время своего девичества она занималась тем же самым, чем занимались многочисленные английские дворяне и буржуа ее эпохи. Все они участвовали в большом деле добычи. Сотни тысяч англичан и англичанок стали тогда “корсар-капиталистами”, corsairs capitalists»*. … А теперь вернемся к нашему исходному тезису о том, что принципы либерализма возникли не из теории, а из практики морского разбоя и пиратства. Либерализм изначально существовал как совокупность работающих жизненных принципов свободных «героев моря» – морских разбойников, работорговцев и контрабандистов, свободных торговцев и свободных предпринимателей, освободившихся от высоких морально-этических принципов, от опеки государства и стремящихся к экспансии и господству. «Частная экономия» Смита подвела некое подобие теоретической базы под сугубо рациональные и разбойничьи принципы морского способа жизнедеятельности, основанного на морском разбое, колониальном грабеже, на работорговле и контрабанде. Адам Смит выразил интересы владельцев крупной частной собственности, создавших великую Британскую империю – пиратов и корсаров, работорговцев, торговцев-контрабандистов, колонизаторов, просто мошенников и авантюристов. Именно из системы жизненных повседневных принципов морского (пиратского) способа бытия в итоге сформировались принципы либерализма… Тезис о разбойничьем характере либеральных принципов свободной торговли кому-то может показаться даже абсурдным. Вспомним, чем и как торговали пресловутые «герои моря», ставшие затем не только философствующими политиками, но и владельцами крупных капиталов. Основу торговли и богатства Англии на протяжении нескольких столетий подряд составляли работорговля и контрабанда. Они приносили фантастические прибыли. В одном только американском городе Род-Айленде в 1770 г. в целях работорговли использовались 150 судов. О фантастической прибыльности этой «торговли» говорит такой факт, приведенный в книге У. Фостера: «Балтиморское судно “Винус”, постройка которого обошлась в 30 тысяч долларов, в первый же рейс с грузом рабов принесло 200 тысяч долларов барыша». Он также приводит данные, согласно которым всего во все страны Америки было привезено около 15 млн. рабов-негров; при этом на каждого раба, привезенного в Западное полушарие, приходилось пять негров, убитых в Африке или погибших во время переезда через океан; таким образом, всего Африка потеряла от 60 до 80 млн. чел.* Вспомним, что норма прибыли пиратского капитала Дрейка нередко превышала 10 тыс. процентов и более! В Англии и Америке целые города выросли на работорговле. Английские суда вывезли из Африки почти в четыре раза больше рабов, чем корабли всех остальных наций, вместе взятых**. Никогда еще человек в погоне за барышом не падал так низко, как участники чудовищной работорговли. Но разве свобода работорговли это не воплощение разбойничьих принципов свободной торговли? А контрабанда, для которой работорговля нередко становилось лишь внешним прикрытием? Она также приносила одинаково сказочные барыши – как в южноамериканских колониях Испании, так и североамериканских колониях Англии… Сумасшедшие деньги порождают обезумевших «людей», совершающих безумные действия, преступления и зверства, и все это во имя денег и прибыли, прикрывая безумство и преступления «добропорядочным» либерализмом, плавающим в крови. Освальд Шпенглер верно заметил: «Англичане первые построили теорию своего эксплуататорского мирового хозяйства под именем политической экономии. Как торговцы они были достаточно умны, чтобы понимать, какую власть имеет перо над людьми самой доверчивой к книгам культуры. Они убеждали их (людей других стран. – А. О.), что интересы народа морских разбойников – это интересы всего человечества. Они прикрывали принцип свободы торговли идеей свободы»*. Принципы либеральной доктрины явились принципами не созидания и мирного строительства, а жестокой социальной войны, которую объявили обществу циничные, аморальные и богатые «Я», стремившиеся к пресловутой свободе. Однако речь здесь идет об «отрицательной свободе»: свободе от Бога, от общества и от каких-либо обязательств перед людьми. «Сама идея свободы, которую западный человек всасывает с молоком матери, есть преимущественно… идея той же отрицательной свободы», которая «выражается в двух основных формах: в самоутверждении и в самоуслаждении». Именно тогда либеральная доктрина провозгласила свои принципы: 1) абсолютное господство частного и богатого «Я» над всем обществом; 2) абсолютное невмешательство государства в его бизнес и его частную жизнь; 3) абсолютную свободу торговли и свободу предпринимательства. Когда же морские разбойники, получив от королевской власти дворянские звания за заслуги, стали уважаемыми политиками, банкирами, свободными предпринимателями, они привнесли в политику и практику бизнеса свои повседневные принципы морской жизнедеятельности, свободной и от государства, и от высоких моральных устоев. Бывшие пираты сэр Уолтер Рэлли, сэр Генри Морган и другие «герои моря» стали тогда диктовать Англии свои жизненные принципы моря в качестве принципов государственной идеологии как совокупности работающих либеральных принципов.
Пояснения к материалам рассылки: Там, где речь ведётся от личного имени Я, речь ведётся от имени автора рассылки и излагается его личное мнение. Там, где употребляется местоимение МЫ, речь идёт от имени сторонников Концепции Общественной Безопасности. (Хотя, такое различие не удаётся обозначить во всех случаях). В моих понятиях, жить по Божьим законам - это то же самое, что жить по законам Природы, Вселенной. Разум - это инструмент познания Бога (если Вы верите в Бога) или Законов Природы (если Вы верите в Законы Природы). При чтении наших материалов мы просим читателей иметь в виду то, что в своих публикациях мы постепенно восстанавливаем правила правописания, бывшие в употреблении до 1918 года. Делаем мы это из-за смысловой нагрузки каждой буквы в слове, поскольку нам не нравится беЗсмысленная орфография. Вот всего лишь два примера: * слово <<мiр>> означает <<общество>>, а слово <<мир>> означает <<состояние общества без войны>>; * приставка <<без>> означает отсутствие чего-либо, а приставка <<бес>> несёт в себе смысловую нагрузку слов <<бес>>, <<сатана>>. Таким образом, слово <<беЗсовестный>> означает отсутствие совести, а слово <<беСсовестный>> -- бес, сатана совестный. Аналогично различается написание слов <<безсознательный>> и <<бессознательный>>. Ныне действующая орфография, подъигрывая шепелявости обыденной изустной речи, предписывает перед шипящими и глухими согласными в приставках <<без->>, <<воз->>, <<из->>, <<раз->> звонкую <<з>> заменять на глухую <<с>>, в результате чего названные <<морфемы>> в составе слова утрачивают смысл. Данная работа - это частный взгляд на окружающую действительность. Для любого читающего эта рассылка только материал к размышлению. Выводы каждый сделает сам, опираясь на свой личный опыт и знания. Ваши выводы будут лучше. Адрес этой рассылки: http://subscribe.ru/catalog/culture.people.znanieistiny (C) Приветствуется перепечатка материалов рассылки и их воспроизведение в любой форме и любыми средствами. Предлагаю посмотреть: http://prosto-rossiane.ru/ http://www.vodaspb.ru |
| В избранное | ||