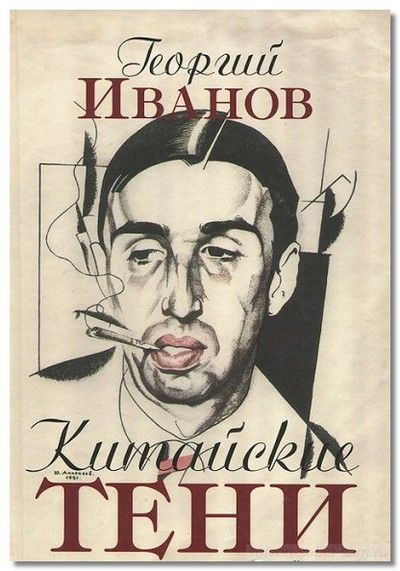
Среди поэтов, родившихся в ноябре, есть такие, которые пересекаются не только календарно, но и тематически, продолжая один другого. В ноябре родился гениальный Александр Блок и поэт, которого называли лучшим в русской эмиграции, Георгий Иванов.
В ноябре родились Достоевский, Хлебников, Апухтин, Симонов, Багрицкий, Маршак… О некоторых писала, о других - еще предстоит написать. Сегодня же - только о Блоке и Георгии Иванове, потому что оба сошлись в одной точке – в любви к России, к России не как к географическому месту, а как к надмирной метафизической идее.
Россия счастие. Россия свет.
А может быть, России вовсе нет.И над Невой закат не догорал.
И Пушкин на снегу не умирал,И нет ни Петербурга, ни Кремля —
Одни снега, снега, поля, поля...
…………………….Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия — только страх.Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.Веревка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья в мире нет.
(Г.Иванов. Россия)
Георгий Иванов прошел сложный путь трансформации. Доэмигрантский и эмигрантский - это два разных поэта. То был путь от, пусть и хорошо написанных, но «стеклянных», бесчувственных и бессодержательных стихов к глубоким, философским стихам последних лет жизни.
Преображение поэта поражало всех знавших его по Петербургу: щёголя, как бабочка порхавшего между великими событиями и великими людьми и писавшего, по словам Александра Блока, стихи, не обделённые ни умом, талантом, ни вкусом, и вместе с тем обделённые всем.
Георгий Иванов моложе Александра Блока всего на шестнадцать лет, но их относят к разным поэтическим течениям: Александра Блока – к символистам, Георгия Иванова – к акмеистам. Но сказать, что Иванов далеко ушёл от Блока, значит погрешить против правды.
 Иванов начал входить в литературную жизнь Петербурга в шестнадцать лет: первое стихотворение напечатали в 1910-м, когда поэзия Серебряного века вошла в русло, ограниченное, с одной стороны, поэтикой Иннокентия Анненского, с другой – Михаила Кузмина и всё замкнулось на Блоке.
Иванов начал входить в литературную жизнь Петербурга в шестнадцать лет: первое стихотворение напечатали в 1910-м, когда поэзия Серебряного века вошла в русло, ограниченное, с одной стороны, поэтикой Иннокентия Анненского, с другой – Михаила Кузмина и всё замкнулось на Блоке.
Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.
(А.Блок. На поле Куликовом)
Георгий Иванов в ранний поэтический период подражал всем: Северянину, Гумилёву, Кузмину, но и у всех учился. Замешанный на такой закваске, его собственный голос прорезался много позднее, в эмиграции, после октябрьской катастрофы, перевернувшей прежний мир. И дело даже не в том, что он и его жена Ирина Одоевцева оказались нищими, вовсе нет.
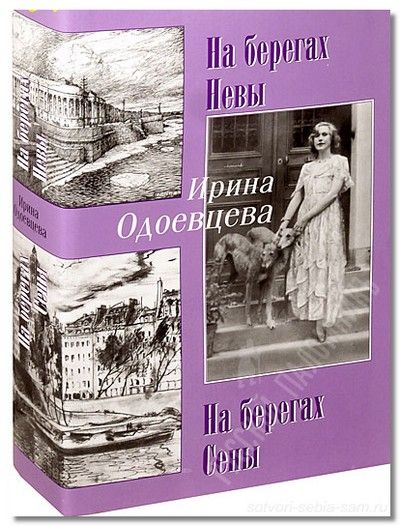 Отец Ирины, банкир, живший в Риге, постоянно высылал им деньги и оставил богатое наследство. Так что пока Латвия не стала советской, они жили вполне безбедно, особенно на фоне эмигрантской нищеты. Но эта материально благополучная жизнь не могла заменить Россию, с утратой которой Георгий Иванов так и не смог смириться.
Отец Ирины, банкир, живший в Риге, постоянно высылал им деньги и оставил богатое наследство. Так что пока Латвия не стала советской, они жили вполне безбедно, особенно на фоне эмигрантской нищеты. Но эта материально благополучная жизнь не могла заменить Россию, с утратой которой Георгий Иванов так и не смог смириться.
Здесь вспоминается пророчество Ходасевича, который терпеть не мог Иванова, но предсказал, еще за год до революции, что Жоржик станет настоящим поэтом, только если переживёт большое и настоящее горе. Иначе он вряд ли станет вообще поэтом. Житейское горе настигло Георгия Иванова в 23 года и уже не отпускало, и не заживало.
Хорошо - что никого,
Хорошо - что ничего,
Так черно и так мертво,Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.
Несколько поэтов, Достоевский,
Несколько царей, орел двуглавый
И державная дорога — Невский.
Что мне делать с этой бывшей славой?
Бывшей, павшей, изменившей, сгнившей?
Широка на Соловки дорога,
Но царю и Богу изменивший
Не достоин ни царя, ни Бога.
Потеряв Россию, Георгий Иванов обрёл в себе настоящего поэта, то, что ему так не хватало в Петербурге. Но прежде чем музыка новой жизни перетечет в поэзию, пройдет еще восемь лет. Эта пауза была необходима для понимания, что всё произошедшее столь же внезапно, сколь и закономерно, что революция - это их позорное поражение, что отчаянию можно противопоставить только мужество принять случившееся.
Пауза нужна была для накопления нового опыта, для вслушивания в новую реальность, в себя, в чужую страну. Ощущение потерянного рая Георгий Иванов пронесёт через все тридцать лет, прожитые в эмиграции. Миф саморазрушения, созданный им, по словам Берберовой, в эмигрантских стихах, всегда рифмовался у него с мифом разрушения России, рухнувшей во тьму в три дня.
Нет в России даже дорогих могил,
Может быть и были - только я забыл.
Нету Петербурга, Киева, Москвы -
Может быть и были, да забыл, увы.
Ни границ не знаю, ни морей, ни рек,
Знаю - там остался русский человек.
Русский он по сердцу, русский по уму,
Если я с ним встречусь, я его пойму.
Сразу, с полуслова... И тогда начну
Различать в тумане и его страну.
Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить её не хочу.И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски
Поля с колосящейся рожью,
Берёзки, дымки, огоньки...
В Россию Георгий Иванов вернулся стихами спустя 65 лет, но и сегодня не во всяком сборнике найдешь его стихи. Вот перед мной сборник 1988 года о русской поэзии двадцатых-тридцатых годов. Есть Корнилов, Смеляков, Мартынов, Уткин, Шершеневич и другие, а Георгия Иванова нет. Накануне смерти, в августе 1958, уже на смертном одре, он напишет:
Отчаянье я превратил в игру -
О чем вздыхать и плакать, в самом деле?
Ну не забавно ли, что я умру
Не позже чем на будущей неделе?Умру, - хотя ещё прожить я мог
Лет десять иль, пожалуй, двадцать.Никто не пожалел. И не помог.
И вот приходится смываться.

Это интересно
+18
|
|||

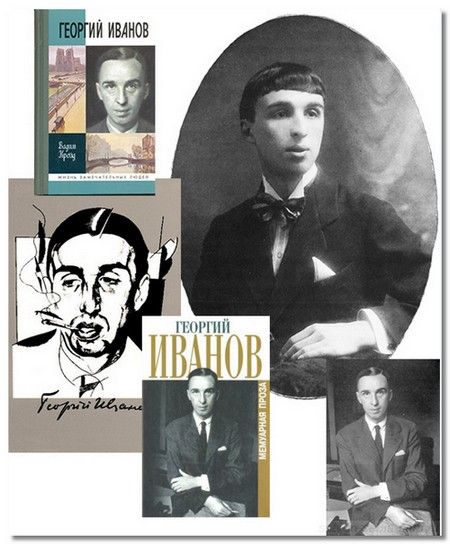



Последние откомментированные темы:
-
David Lazar - лучшие фото
(2)
Лариса Белфорд
,
01.03.2022
-
Можно ли не восхищаться виртуозной акварелью Аруша Воцмуша?
(6)
Але4ка
,
01.03.2022
-
Фотопутешествие: Сорренто (Sorrento), Италия
(4)
VIKGOL49
,
01.03.2022
-
Бумажная живопись Альбина Талика
(6)
Lathos
,
01.03.2022
-
Запах детства на травах настоян... Шведский художник Йохан Кроутен
(8)
Flori
,
28.02.2022
20250219072544